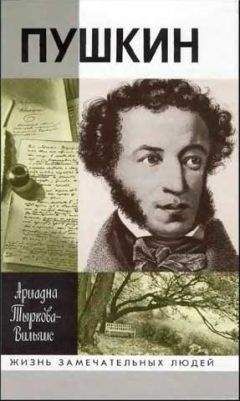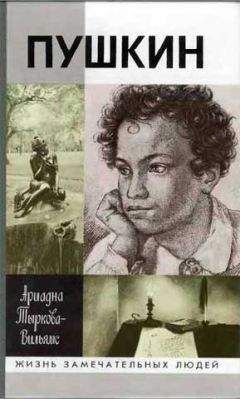Пушкин не скрыл от друзей, что Царь ему очень понравился. Адам Мицкевич рассказывал Герцену: «Николай обольстил Пушкина. Он призвал его к себе и сказал: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил партию, к которой ты принадлежал, но верь мне, я так же люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сначала укрепиться».
Сто лет спустя вдумчивый Лернер писал: «Младенчески божественная мудрость великого певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости. Умный победил мудрого».
Во всяком случае, Пушкину не только не пришлось пускать в ход своего поэтического оружия, но, уходя, он чуть не потерял на дворцовой лестнице листок с обличительными стихами, который выпал у него из кармана.
Но и Николай, при всем своем равнодушии к поэзии, почувствовал в поэте что-то, с чем нельзя не считаться. Вызов Пушкина из Михайловского был не просто милостью. Это был политический шаг, поскольку это понятие можно применить к внутренней жизни тогдашней России. Даже сквозь пышность коронационных торжеств царь и его приближенные чувствовали, что часть просвещенного московского дворянства осуждает их за жестокую расправу с декабристами. Среди казненных и сосланных у многих москвичей были родные и друзья. Перед коронацией надеялись на милость, ждали, что сократят сроки ссылки, снимут с каторжан оковы, от которых у них на ногах делались мучительные раны. Эти надежды не сбылись.
Николай знал, что среди дворянства накопилась против него затаенная горечь. Он считал выгодным привлечь к себе Пушкина, через этого «корифея либерализма» найти некоторое примирение с общественным мнением. Пушкин, входя в Чудов монастырь, этого не подозревал, по детскому простодушию не знал себе цены. Шесть лет с ним обращались то как с вредным повесой, то как с опасным для государства вольнодумцем. Когда он внезапно очутился лицом к лицу с самодержцем, ему и в голову не пришло, что правительству выгодно привлечь его к себе.
В тот день вечером был бал у французского посла маршала Мармона, герцога Рагузского. Там Николай сказал Блудову, который из Арзамасца превратился уже в сановника:
«Знаешь, я нынче долго разговаривал с умнейшим человеком в России. Угадай, с кем?»
Видя недоумение на лице Блудова, Николай с улыбкой пояснил:
«С Пушкиным».
Весть, что Пушкин в Москве, сразу разнеслась среди гостей герцога Рагузского и вызвала радостное волнение. Стоя недалеко от Царя, молоденькая княжна А. И. Трубецкая сказала своему танцору, поэту Веневитинову:
«Я теперь смотрю на Царя более дружескими глазами. Он вернул нам Пушкина».
Среди гостей герцога Рагузского был молодой С. А. Соболевский, приятель Левушки Пушкина. Он, как был в бальных башмаках с пряжками и в белых шелковых чулках, поскакал по Москве разыскивать Пушкина. Нашел его у дядюшки Василия Львовича. Пушкин, который знал Соболевского еще по Петербургу, огорошил его неожиданным поручением – немедленно отправиться к графу Федору Толстому и вручить ему вызов на дуэль.
Это был отголосок старой ссоры 1820 года. Пушкин подозревал тогда, что Толстой распространял по Петербургу выдуманный им слух, что Пушкина высекли в полиции. Он тогда же вызвал Толстого на дуэль. Подраться они не успели, так как Пушкина выслали на юг. Обида не была забыта. При одном воспоминании о ней Пушкин менялся в лице. В рассказе «Выстрел» Пушкин описал состояние человека, который годами носил в сердце надежду отомстить обидчику. Злые, мстительные чувства были совсем не свойственны Пушкину, но, как говорил Вяземский, «он строго держал в памяти свою бухгалтерскую книгу, в которую вносил имена должников своих». Долги чести не имели давности. Пушкин, как и большинство его современников, считал, что обида смывается кровью. Уезжая из Михайловского почти без вещей, он, к неудовольствию фельдъегеря, захватил с собою ящик с пистолетами.
Федор Толстой был типичный бретер. Его прозвали «американцем», потому что он прожил несколько лет на Алеутских островах, куда его за бурное поведение высадил адмирал Крузенштерн, под командой которого Толстой плавал вокруг света. Федор Толстой был драчун, враль, картежник, дуэлист, отправивший на тот свет десяток противников. Это не мешало ему иметь много друзей. О нем писал Вяземский: «Американец и цыган, на свете нравственном загадка… которого душа есть пламень, а ум холодный эгоист, под бурей рока твердый камень, в волненьях страсти легкий лист».
Много лет спустя Лев Толстой, приходившийся ему двоюродным племянником, говорил о Федоре Толстом: «Необыкновенный, преступный и привлекательный человек».
Федор Толстой был отличный стрелок и мог легко убить Пушкина. К счастью, его не оказалось в Москве, и, когда он вернулся, Вяземский сумел помирить с ним Пушкина. Вяземский был убежденный противник дуэлей, считал такой способ защиты своего достоинства просто дикостью. В этом Вяземский сходился с Николаем. Царь говорил: «Я ненавижу дуэли. Это варварство. На мой взгляд, в них нет ничего рыцарского». В его царствование количество дуэлей резко уменьшилось. Да и настроение молодежи переменилось. Задорное удальство уже не считалось необходимой подробностью хороших манер, как это было в ранней юности Пушкина.
Угомонился и Пушкин. После Кишинева у него была только одна дуэль, это его последний, роковой поединок с Дантесом.
На приезжих из деревни коронационная Москва производила ошеломляющее впечатление. В один день с Пушкиным туда приехал С. Т. Аксаков. Он писал: «Москва еще полна гостей, съехавшихся на коронацию со всей России, из Петербурга, из Европы, гудела в тишине темной ночи. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще не спящего четырехсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в темном куполе неба, и тускло сверкали в нем звезды. В эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск переносил я из спокойной тишины деревенского уединения скромную судьбу мою и моей семьи».
Москва всегда умела и любила праздновать. Приезд двора и коронация дали для этого отличный повод. Русская знать и иностранные послы соперничали между собой в пышности приемов. Долго шли споры о том, кто лучше принял Царя – английский посол – герцог Девонширский – или посол французский, герцог Рагузский? У кого ярче были освещены палаты, где искуснее играли крепостные музыканты, у князя Юсупова или у графини Анны Орловой-Чесменской? Она разослала более тысячи приглашений. Такого количества танцоров ее зала не могла вместить. Графиня велела настлать паркет в огромном манеже, где ее отец объезжал своих знаменитых рысаков. Одной из главных трудностей приемов было освещение. Вся Москва говорила о том, что в манеже графини Орловой горело более 7000 свечей, да еще восковых.