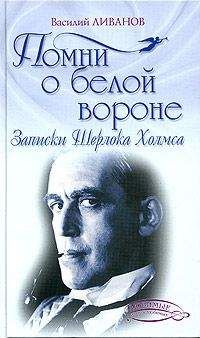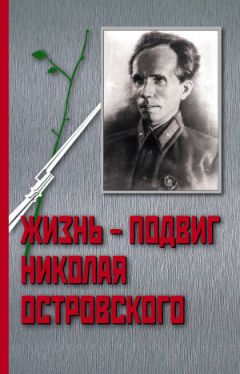– Теперь вряд ли увидимся, – подумал тогда Иван Иванович. И вот на тебе – встреча!
Пока Иван Иванович предавался воспоминаниям, глядя в толстые стекла гарикиных очков, неожиданное путешествие на мягком диване окончилось. Водитель открыл дверцу и, любовно направляемый школьным другом, Иван Иванович поднялся по гранитным ступенькам к высоким дверям подъезда. Одной рукой придерживая Распутина за талию, Гарик другой толкнул стеклянную дверь подъезда, затянутую точно такими же занавесками, как в салоне автомобиля.
Иван Иванович очутился в просторном вестибюле, застеленном зеленым ковром. Прямо напротив дверей уходила ввысь решетка лифтовой клети, а сбоку от нее, около полированной тумбочки, в углу, подставив раскрытую книгу под свет настольной лампы под зеленым абажуром, сидел широкоплечий молодой человек, увлеченный чтением.
– Знакомься, это наш Сережа, – сказал Гарик. Молодой человек вскочил, уронив книгу с колен, и заулыбался навстречу вошедшим. Лицо у него было румяное, девичье.
– Как экзамены? – спросил Гарик.
– Два уже сдал. Вот – к третьему готовлюсь. – Сережа нагнулся и поспешно поднял книгу.
– Как сдал? – не отставал Гарик.
– Отлично, – Сережа пунцово зарделся.
– Молодец! – и сверкнув стеклами очков пояснил: – Сережа – будущий искусствовед.
Ну зачем вы так, Гарантий Осипович, – деликатно возразил Сережа, перехватив книгу под мышку.
– Ничего, привыкай.
Заходя в лифт, Иван Иванович успел прочесть на обложке книги слово «Устав», но что это был за устав, скрывалось под бицепсом молодого человека, и Распятий сам домыслил, что скорее всего это был устав Академии художеств.
Бесшумно поднимаясь все выше и выше в просторной кабинет с чистыми лакированными панелями, Иван Иванович думал о том, что совершенно забыл полное имя Гарика – Гарантий и теперь вспоминал, сколько обид претерпел Гарик от своих школьных товарищей, которых это редкое имя почему-то смешило. И то, что он забыл полное имя своего давнего друга, вернуло Ивана Ивановича с многоэтажной высоты на землю, к реальной действительности. А действительность была такова: забывчивость Ивана Ивановича не только безраздельно властвовала в настоящем, но роковым образом заползала в прошлое и уж безусловно ничего хорошего не предвещала в будущем.
Ужасающая картина клинического идиотизма возникла в потрясенном воображении Ивана Ивановича, и он потом никак не мог внятно описать Настасье Филипповне, что представляла собой квартира Гарантия Осиповича, какие занавески на окнах, какая мебель стояла, какого рисунка были обои и совершенно не обратил внимания на плитку в ванной комнате, хотя дважды ходил туда остужать горячую голову под краном. Но кран тоже не запомнился.
Иван Иванович помнил, что когда они вступили в квартиру перед ними возникло плоское лицо с суровыми глазами и только по белому крахмальному фартуку можно было предположить, что лицо это женского пола.
– Ужином накормите нас, Груня? – заискивающе, как показалось Ивану Ивановичу, поинтересовался у нее хозяин.
– Так точно, – ответила Груня и, повернувшись налево кругом, удалилась в глубину квартиры.
Что именно подавалось на ужин и какого вкуса были кушанья Иван Иванович тоже не запомнил.
Все свои убывающие силы Распятий сосредоточил на рассказе о происшедшей с ним трагедии. Гарантий Осипович слушал, не прерывая. Стекла его очков светились уютным желтоватым светом, время от времени он поднимал руку и в раздумье проводил ладонью по влажно блестевшей лысине.
– Судьба послала мне тебя, Гарик, – закончил свою исповедь Иван Иванович. – Ты меня знаешь, как никто... Годы ничего не изменили... да, ничего не изменили, – с силой повторил Иван Иванович, – я это сразу почувствовал. Вся моя надежда теперь на тебя. Твой ум, опыт...
– Ах, Ваня, Ваня... – Гарантий Осипович вытер твердые, чисто выбритые губы салфеткой, отклонился на спинку стула. Уютный желтый огонек в очках погас. Лицо ушло в тень.
– Ваня, вспомнить можешь только ты. Ты один. Но я попробую тебе помочь, подсказать. Подумай. Ответь мне, на что ты сам надеешься? Подумай, ведь ты искренний человек.
– На коммунизм, – с полувопросительной интонацией предположил Иван Иванович.
– Коммунизм и так будет. Это научно доказано. Тут твои надежды ни при чем.
– На мир...
– На мир не надеются, за него борются. Еще на что?
– На бога? – Иван Иванович хотел пошутить, но вышло не ловко и горько.
– На бога надейся, а сам не плошай, – тоже пошутил Гарантий Осипович. И продолжал серьезно:
– Сценарий твой называется «Надежда». Ты же на что-то должен надеяться, вот ты, русский человек, Иван да еще Иванович, мужчина не первой молодости...
– Беспартийный...
– Ну, беспартийный... писатель, член Общества кинолюбов. Ты член Общества? Иван Иванович кивнул.
– Может быть, надеешься, что к тебе придет слава? Всесоюзная, всемирная...
– Какая там слава, Гарик, смешно.
– А может быть... Как это... помнишь? «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной» А? – Гарантий Осипович заметно оживился.
– Любовь? – Иван Иванович задумался. – Я жену люблю, – сказал он, почему-то тяжело вздохнул и смутился.
– Что же тут смущаться, чудак-человек? – Гарантий Осипович хохотнул – Это прекрасно! Но жена есть жена...
– Надеялся я повидать Венецию, – слегка повеселев, сказал Иван Иванович, – город на воде, жемчужину Адриатического моря...
– Но не о Венеции же ты писал?
– Я? Писал? – переспросил Иван Иванович. – Нет... Черта ли мне в этой Венеции? – и Иван Иванович вдруг заплакал.
Домой к себе Иван Иванович приехал на черной «Волге», которую Гарантий Осипович специально вызвал для друга по телефону.
Ночь укрыла город цветным лоскутным одеялом, и достался Ивану Ивановичу чужой лоскуток.
Ему приснилось, что он – Пустомясов.
– Как же так, – боясь служебной ответственности, спросил себя во сне Иван Иванович, – ведь я же сценарист...
– Ничего, – ответил новый, пустомясовский облик Ивана Ивановича, – творческий приварок к должностной зарплате не помешает.
– Но ведь это же использование служебного положения! – в сонном ужасе догадался прежний Иван Иванович.
– Дурак, – хохотнул Пустомясов-Распятий, – все так делают. Под псевдонимом укроешься.
– Какой-такой еще псевдоним? – изнемогал во сне Иван Иванович.
– Опять дурак... Я нам псевдоним придумал: Малаховец. Чем плохо? Будешь за меня писать, дружить будем. А если что – ты ничего не помнишь... Ведь ты Иван Непомнящий...
– Гадина ты, – ответил Иван Иванович, какой-то частицей сознания понимая, что это сон и что другого случая смело высказаться о Пустомясове не представится. – Думаешь, друзей не выбирают?