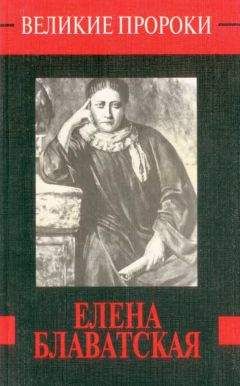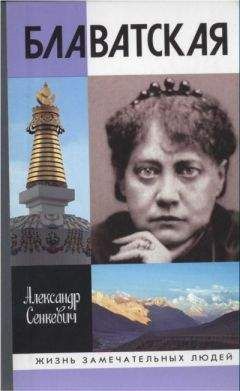Здесь я процитирую отрывок из ее «Протеста» на «Доклад», который она озаглавила «Оккультный мир феномена и Общество физических исследований».
«Мистер Ходжсон знает, — пишет она, — а Комитет без сомнения тоже, что я не приму никаких контрмер, потому что у меня нет средств для ведения дорогостоящих судов (я отдала все, что у меня когда-либо было, делу, которому служу), а также потому, что мое оправдание потребует исследования моего психического мистицизма, которое не может быть проведено должным образом правовыми органами, а также еще и потому, что есть вопросы, на которые я не обязана и не уполномочена отвечать, но которые эти клеветники обязательно вынесут на поверхность. В то же время мое молчание и уход от ответа будут равносильны «неявке в суд». <…>
Я провела несколько месяцев с мадам Блаватской. Мы жили с ней в одной комнате и были вместе утром, днем и вечером. У меня был доступ ко всем ее коробкам и ящикам. Я читала письма, которые к ней приходили и которые писала она сама, и теперь могу открыто и честно заявить, что мне стыдно, что когда-то подозревала ее. Я считаю ее честной и правдивой женщиной, преданной до самой смерти своему Учителю и делу, которому принесла в жертву свое положение, здоровье и карьеру. Я абсолютно не сомневаюсь, что она приносила эти жертвы, а я видела тому доказательства. Некоторые из них подтверждаются документами, подлинность их несомненна.
С общепринятой точки зрения мадам Блаватская — несчастная женщина, непризнанная, подозреваемая и обруганная многими. Но если взять более высокую точку отсчета, она обладает необычным даром, и никакие оскорбления не могут лишить ее тех способностей, которые ей даны. Она знает границу многих вещей, которые известны только несколькими из смертных, находится в непосредственном контакте с конкретными восточными адептами…
С самой первой ночи, которую я провела в ее комнате, и до последней я регулярно слышала равномерные постукивания по столу, раздававшиеся в непосредственной близости от нее. Они обычно раздавались, начиная с десяти часов вечера, и заканчивались около шести часов утра, с интервалом в десять минут. Они были резкими, отчетливыми и слышны были только в данный определенный отрезок времени. Иногда я специально клала перед собой часы, и каждый раз ровно через десять минут раздавалось регулярное постукивание. Это происходило независимо от того, спала ли в это время Блаватская или нет.
Когда я просила объяснить мне происхождение этих постукиваний, мне говорилось, что этот эффект служит своего рода телеграфом и является своеобразным средством связи между ней и Учителями и что они, очевидно, ведут наблюдение за ее телом в то время, когда астрал покидает его…
Но возникает вопрос, почему она, обладая силой облегчать страдания другим, сама страдала? Почему, выполняя столь важное задание, работая ежедневно по многу часов в день, что требовало хорошего здоровья, почему она пальцем не пошевелила для того, чтобы снять с себя слабость и боль, которые были присущи обычному человеку?
Такой вопрос напрашивается сам собой, и он меня все время мучил, зная, какой она обладала силой и даром лечить других. И когда я ей задавала этот вопрос, она неизменно отвечала одно и то же. «В оккультизме, — говорила она, — тот, кто обладает силой, не должен распространять ее на себя, это означало бы поставить ногу в стремя и поскакать к пропасти Черной магии. Я дала клятву этого не делать, и я не из тех, кто ее нарушает. И чтобы обеспечить более благоприятные условия для выполнения моего задания, не обязательно действовать по принципу — цель оправдывает средства, — нам такой путь не годится, это также не значит, что мы должны идти за дьяволом в надежде, что он сделает добро. — Она продолжала: — Я терпеливо переношу не только физическую боль, слабость и болезни. Ради работы я переношу также умственное напряжение, позор, срам и насмешки».
Все это не преувеличение и не форма эмоционального выражения. Это все оставалось правдой до самой ее смерти как фактически, так и исторически. В нее, как на главу Теософического общества, летели отравленные стрелы непонимания, которые попадали в ее чувствительную душу, как в щит, им она прикрывала слабых и заблудших.
Она действительно была жертвой, мученицей, терпеливо переносила любой срам, и на ее агонии держалось благополучие Теософического общества»[3].
Воспоминания Анни Безант об обстоятельствах ее знакомства с Е. П. Блаватской
«…Год 1889-й — незабвенный для меня год, когда я нашла дорогу Домой и имела бесценное счастье встретить Блаватскую и стать ее ученицей, — пишет в своей «Автобиографии» Анни Безант. — Во мне все больше и больше росло сознание, что для изменения социальных бедствий нужно нечто более того, что у меня было. Социальное положение достаточно было для экономической стороны вопроса, но где взять вдохновение, импульс которого привел бы к осуществлению Братства человечества? Наши усилия организовать прочные кружки самоотверженных работников потерпели неудачу. Многое было сделано, но не было настоящего движения самоотверженной преданности, в силу которой люди работали бы только ради любви и стремились бы лишь давать, не требуя ничего взамен. Где был материл для создания более высокого социального ордена, где были отесанные камни для возведения храма человеку? Мною овладело отчаяние, когда я искала этого движения и его не находила. <…>
Я прочла много книг, но они меня не удовлетворяли. <…> Наконец, однажды, сидя дома в глубоком скорбном раздумье, как то была моя привычка после захода солнца, полная интенсивной, но почти безнадежной жажды разрешить загадки жизни и разума, я услыхала голос, ставший для меня впоследствии самым священным звуком на земле, призывавший меня к бодрости, потому что свет был близок. Две недели спустя мистер Стэд вручил мне два тома. «Можете ли вы написать рецензию о них? Мои молодые люди все сторонятся их, но вы настолько увлечены этими вопросами, что можете что-нибудь о них написать?» Я взяла книги; то были два тома «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской.
Я принесла домой свою ношу и села за чтение. Интерес возрастал с каждой страницей, но как все это казалось знакомым; как мой ум предугадывал выводы, как естественно это было, стройно, тонко и вместе с тем как понятно. Я была ослеплена светом, в котором разрозненные факты казались частями мощного целого, и все мои загадки, сомнения, задачи, казалось, исчезли. <… >
Я написала рецензию и просила мистера Стэда представить меня автору и затем написала ей несколько слов, прося разрешения ее навестить. Я получила самую дружескую записку с приглашением прийти, и в мягкий, весенний вечер Герберт Берроус и я (его стремления тождественны были с моими в этом вопросе) пошли пешком от Notting Hill Station № 17 по Landsdowne Road, спрашивая себя, что мы увидим. После минутной остановки мы быстро прошли через переднюю и первую комнату, чрез раскрывшиеся перед нами двери; фигура в большом кресле перед столом; голос звучный, властный: «Милая миссис Безант, я так давно хочу с вами познакомиться». И моя рука очутилась в ее сильных руках, и я взглянула в первый раз в этой жизни в глаза Е. П. Блаватской. Мое сердце внезапно бросилось ей навстречу (узнала ли я ее?), и затем — стыдно в том сознаться — оно горячо запротестовало, отхлынуло назад, как дикий зверь, почувствовавший властную руку. Я села, после того как была представлена нескольким присутствовавшим здесь лицам, и стала слушать. Она говорила о своих путешествиях, о различных странах, вела свободный блестящий разговор; глаза ее были безучастны, а прелестные пальцы беспрестанно крутили папиросы. Ничего особенного не было сказано, ни слова об оккультизме, ничего таинственного, светская женщина, поддерживающая легкий разговор со своими вечерними посетителями. Мы встали, собираясь уйти, и на минуту завеса поднялась, и два блестящих проницательных глаза встретили мой взгляд, и голос ее дрогнул: «О, милая моя миссис Безант, если бы вы к нам примкнули!» Я почувствовала почти непобедимое желание наклониться и поцеловать ее под влиянием этого просящего голоса, этих глаз, но со вспышкой прежней непреклонной гордости и внутренней усмешкой над своим безумием я вежливо простилась и ушла, сказав несколько банальных и уклончивых слов. «Дитя, — сказала она мне много позднее, — гордость ваша велика; вы горды, как сам Люцифер». Но, право, мне кажется, что после этого вечера я никогда не проявила ее по отношению к ней, хотя гордость моя гневно пробуждалась в защиту Е. П. Б. много раз, пока я не поняла всей мелочности и бесполезности критики и не узнала, что слепые являются предметом жалости, а не презрения.