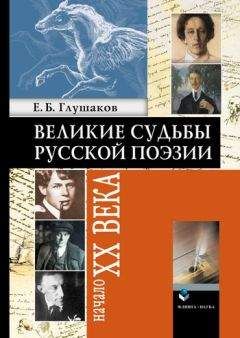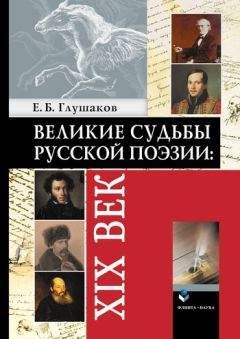ПИСЬМО К МАТЕРИ
Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечалось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И его услышали. Обступили. Кто-то сел рядом. Слово боялись проронить. Кто-то плакал. Может быть, вспомнил свою мать, которую не видел не один десяток лет, скитаясь по чужим углам и тюрьмам?
Впрочем, было бы неверным полагать, что «Москва кабацкая» оказалась никому не нужна. Нашлись охотники и до этих нетрезвых стихов, причём, среди его же собратьев по перу – поэтов и писателей, не слишком одарённых, а, подчас, и вовсе бездарных. Эти люди, в основном – выползки литературной богемы, так подумали и решили: «Ты написал «Париж кабацкий», «Нью-Йорк кабацкий», «Чикаго кабацкое», а мы тебе устроим настоящую «Москву кабацкую». Мы все твои гонорары пустим по ветру; мы тебя объедим, обопьём; мы тебе ни писать, ни дышать, ни жить не дадим…» И закружили они Сергея Александровича, пропивая его талант, вовлекая в бесчисленные скандалы и купаясь в грязной славе газетных хроник, куда им нравилось попадать заодно с уже знаменитым поэтом.
Вот когда начало подтверждаться предостережение Николая Клюева, что город может погубить Есенина. Пока Сергей Александрович находился среди деревенских поэтов и под его опекой, конечно же, такого разгула не наблюдалось. Мариенгоф явился переходным звеном. И вот теперь, когда поэта обволок и закружил, по сути дела, литературный сброд, среди которого вороватый Иван Приблудный был только одним из многих, пошли кабаки.
Но разве сам Клюев не действовал растлевающе, настраивая Есенина на враждебное отношение к городу, ко всему городскому? Эта озлобленность, обособленность и могла уже разрешиться только пьянством, только разгулом. Вот они ступени личной деградации Есенина: Клюев, Мариенгоф, Приблудный. Начиналось с робкого, мечтательного: «Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт», а закончилось: «О если б вы понимали, что сын ваш в России – самый лучший поэт!» Росло самомнение, заносчивость, естественно мельчали приятели, понижаясь до полного холуйства и подлости.
Очень, очень скоро, изнемогая и теряя себя в пьяном кружении «Москвы кабацкой», Есенин понял, насколько он ошибся с выбором своего имиджа «поэта-хулигана». Но, как это частенько бывает с беспечными неосторожными людьми, спохватятся, а игра уже стала реальностью, придуманная маска – лицом. Попробовал было сорвать с себя эту карнавальную вещицу, не срывается – приросла, с мясом не отдерёшь.
Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?
Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.
Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою лёгкую походку.
Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.
Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нём удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.
Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.
И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.
Думается, что слово «шарлатаном» в этом стихотворении – редакторская правка самого Есенина. Разве шарлатаном он в эту пору слыл? Нет, скорее – хулиганом. Наверное, по началу так и было написано, а потом, возможно, поэт решил несколько облагородить слухи о себе…
Но это – детали. Существеннее другое: имеется в этом стихотворении удивительная, хотя по виду и ничем непримечательная строка: «Не расстреливал несчастных по темницам». Не каждый на неё и внимание обратит.
А вот Осип Эмильевич Мандельштам, поэт и человек, весьма далёкий от Сергея Александровича, если слышал какие-либо нападки на него, всегда горячо вступался, утверждая, что Есенину уже за одну эту строку можно всё простить. Дело в том, что в эпоху революционного террора расстреливали-таки несчастных по темницам без суда и следствия, как это произошло, например, с царской семьёй. И написав такое, поэт неизбежно вызвал не то, чтобы неудовольствие, но ярость и мстительную ненависть властей. Да и вообще поэзия Есенина, отличавшаяся предельной искренностью, уже по самой своей природе была обречена на нелады с советским крайне лицемерным режимом, режимом воинствующей красной идеологии.
Но конфликт с властями тогда ещё только назревал. А вот от поэтической богемы надо было срочно спасаться. И Сергей Александрович уезжает то в Азербайджан, то в Грузию. Везде его принимают восторженно и радушно. Растущая поэтическая слава повсюду распахивает ему навстречу и чьи-то гостеприимные дома, и сердца человеческие. Там ему и живётся вольготно, и пишется легко. А в Москву возвращаться не спешит. Вот строчки из его Тифлисского письма: «Мне кажется, я приеду не очень скоро. Не скоро потому, что делать мне в Москве нечего. По кабакам ходить надоело».
Со вторым секретарём ЦК Азербайджана Петром Чагиным Есенин познакомился в Москве на квартире известного актёра Василия Качалова. Чагин предложил поэту побывать в Баку, обещал показать Персию. 20 сентября 1924 года, воспользовавшись приглашением, Есенин приехал в столицу Азербайджана. И – к самому юбилею: памяти 26 бакинских комиссаров.