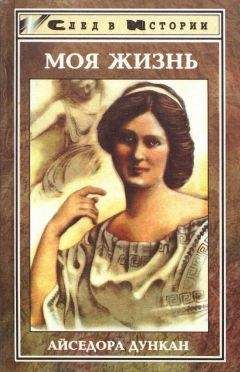В этих домах Танеев был своим человеком и эти дома любил – к числу их относился и дом Толстых, он бывал там очень часто, иногда каждый день, гостил у них летом в Ясной Поляне по месяцам, даже возил туда и свою старую нянюшку. В «любимых домах» Танеев любил и ценил весь ансамбль дома, никогда никого не выделял и особенности. Так и у Толстых он всех любил, быть может, меньше всего самого Толстого, которого слегка, по-видимому, боялся – точнее, боялся, как очень деликатный человек, всегда возможных с его стороны вспышек и резкостей.
Графине С. А. безусловно нравился облик Танеева, она отдыхала на нем, на его спокойной и именно не волнующей музыке, ей нравился светлый и ясный ум его и передовые, либеральные взгляды: на «обыкновенности» Танеева она отдыхала от необыкновенности своего гениального мужа. Не думаю, чтобы с ее стороны могли появиться какие-нибудь более нежные чувства, а с его стороны безусловно ничего подобного не могло появиться просто из-за разницы лет и из-за свойств самого темперамента Танеева. Надо знать Танеева, его бесконечно деликатную натуру (даже собакам говорил «вы»), чтобы быть уверенным в том, что он никогда бы не стал бывать в доме запросто и часто, если бы чувствовал какую бы то ни было минимальную «неловкость» своего положения [079]. А между тем Танеев именно особенно часто бывал в доме Толстых в эту эпоху, начиная с годов «Крейцеровой сонаты» и до начала нашего века, даже, можно сказать, до 1906-7 годов. Очевидно, что если даже у Толстого и были поводы неудовольствия по адресу Танеева, то они были скрываемы настолько умело, что чуткий Танеев их не замечал. Что же касается отношения Толстого к Танееву, то, конечно, возможно, что он, импульсивный и стихийный, дико ревнивый даже в старости, мог что-то подумать про музыкальную дружбу Танеева и графини, но без всяких оснований. Я никогда, впрочем, с его стороны не наблюдал никаких эксцессов по адресу Танеева, но охотно допускаю, что поводы для неудовольствия могли быть, хотя и в иной сфере. Толстой мог быть недоволен Танеевым и за его слишком определенную приверженность к «партии жены» (его преемник, Гольденвейзер, в этом отношении повел свою политику прямо в противоположном направлении), и тем, что чувствовал, что по всем своим убеждениям Танеев, эта плоть от плоти и дух от духа русской либерально-дворянской интеллигенции, – не может быть с ним, с Толстым, что он – «враг» в этом смысле.
Он мог быть недоволен и прямотой Танеева, которая компенсировалась только его деликатностью. Но в некоторых вопросах Танеев имел смелость иметь свое независимое суждение и не соглашаться с Толстым, иногда придавая этому несогласию ядовитую и саркастическую форму. Кроме того, именно в вопросах музыки в Танееве чувствовалось, даже когда он ничего не говорил, сознание своего превосходства и известное скептическое отношение к «профанам», коим в его глазах безусловно был Толстой, – тот это мог чувствовать. Наконец, вообще в последние годы Толстой все более и более тяготился окружением жены, в котором предполагал какой-то перманентный заговор против него и его идей, раздражался и тем, что это окружение пухло и дом их становился каким-то проходным двором.
Как бы то ни было, хронологически появление «Крейцеровой сонаты» (около 1892-93 годов) не совпадает с расцветом близости Танеева к Толстым (около 1894-1900 годов); обратно, максимум «антитанеевских эксцессов», о которых в последнее время повествуется, падает как раз на годы, когда уже давно «Крейцерова соната» была написана.
Если и признать, что близость тогда еще полного сил, молодого, сравнительно знаменитого и симпатичного графине С. А. Танеева в то время, в начале девяностых годов, могла вызвать в Толстом что-либо относящееся к настроениям «Крейцеровой сонаты» и вызвать ее появление, то надо признать, что это был не настоящий, а некий «сублимированный» Танеев – страстный, соблазнительный, для вящей эротичности превращенный в скрипача. Настоящий Танеев все же попал в «творчество»
Толстого, но это вовсе не герой «Крейцеровой сонаты», а всего-навсего «Сергей Иванович Сахатов – отставной товарищ министра» из «Плодов просвещения». Танеев был тоже Сергей Иванович и тоже отставной директор консерватории – вид у него был достаточно бюрократический. Он сам себя узнавал в деталях этого портрета. Но, очевидно, ему и в голову не приходило чувствовать себя «причиной "Крейцеровой сонаты"». Я убежден, что Танеев и не подозревал, что ему могут приписать такое амплуа, исходя из его музыкальной дружбы с С. А. – а если бы узнал, то воображаю его негодование и тот поток ядовитостей, который изошел бы из него. Вероятнее всего, что эта версия была действительно тоже своего рода «сублимацией» отношений Танеева и графини, гипертрофированной людьми противоположной партии, так как Танеев относился к партии «графини» и естественно, что его не пощадили в этой прискорбной борьбе, в которой в конечном счете не было ни правых, ни виноватых [080].
В те годы их только так и называли. Это уже потом их вежливее стали именовать «символистами».
Центральное их ядро, «старшие символисты», были на «полпоколения» старше меня.
Младшие были мои ровесники. С Андреем Белым («в миру» – Боря Бугаев, сын нашего физико-математического декана) я вместе учился в университете. Но как раз его я меньше других знал. Ближе и лучше всех я знал Ю. Балтрушайтиса, с которым был даже на «ты», что со мною вообще редко бывало, и Вячеслава Иванова. Потом в порядке близости следовали Бальмонт, Брюсов, Блок и Белый. Фигуры всех их для меня неотделимы от личности Сергея Александровича Полякова, их объединителя (что было далеко не легкой задачей) и издателя. Сами символисты в своих писаниях никогда его не поминали [081], а между тем ему очень многим обязаны. Ведь на его деньги издавался и руководящий орган «символистов» – «Весы» и на его средства существовало и издательство «Скорпион», где все они публиковались. Даже названия «Скорпион» и «Весы» были придуманы Поляковым. Он был преоригинальнейшей фигурой.
Крупный текстильщик, один из трех братьев – совладельцев одной из крупнейших подмосковных мануфактур [082], он был наделен самобытным, не трафаретным умом.
Его звали «декадентский батька» – в те времена среди русской крупной буржуазии была мода на самые «крайне левые» течения в искусстве. Старообразный даже в молодости, сутулый, с наружностью не то Сократа, не то Достоевского – он был математиком по образованию, энциклопедистом по знаниям, владел пятнадцатью языками (в том числе норвежским, турецким, персидским, арабским и древнееврейским).
Его звали «гений без точки приложения» – он мог дельно и глубоко говорить по любому вопросу, начиная от богословия и до филологии и математики, высказывал всегда что-то очень самобытное, оригинальное. Но все терялось в разговорах, никогда не было никем зафиксировано. Жизнь вел бурную, «ловил миги», что, как известно, было специальностью символистов. Думаю, что этим его символизм и ограничивался – для «приятия» веры символистов у него не хватало наивности и был избыток скепсиса и иронии. Что-то от тонкой иронии было у «декадентского батьки» в отношениях с «призреваемыми» и «издаваемыми» им поэтами – властителями дум тогдашней передовой России. Думаю, что поэты это чувствовали. Во всяком случае, я замечал, что они больше видели в нем издателя, чем единомышленника и друга. А он их видел слишком насквозь. Но «ловить миги» он умел не хуже их, тем более что средства позволяли ему это с большой легкостью.