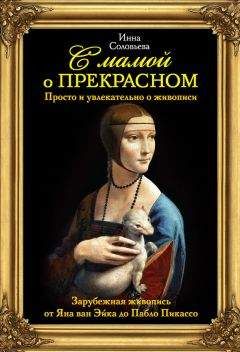Вечер достигает апогея. Гийом Аполлинер, в свою очередь, торжественно произносит тост в честь Анри Руссо, а затем читает стихотворение собственного сочинения, экспромт, как он уверяет. Стихотворение это — о Мексике, о ее дикой природе и о подвигах (воображаемых) Анри Руссо. Заканчивается оно так:
Мы все здесь собрались твою отметить славу,
Так выпьем же, друзья, налей нам, Пикассо.
Мы выпьем за тебя,
Да ие смущайся, право,
Да здравствует Руссо!
Весь Бато-Лавуар содрогается от радостных воплей. Руссо плачет от волнения. Затем он снова засыпает, тихонько похрапывает, снова просыпается, сожалея о минутах, которые проспал, ведь каждая из них должна была стать незабываемой, проснувшись, он не сходит со своего трона до тех пор, пока над его головой не загорается один из деревянных подсвечников.
На рассвете Стайны отвозят обессиленного Руссо в его отдаленный квартал на своем экипаже.
О банкете у Пикассо еще долго ходили слухи, а участники его продолжали о нем вспоминать. Некоторых это возмущало, в частности Дерена, воскликнувшего: «Так что, славим козлов?». Сам же Руссо ии минуты не сомневался в чистосердечии и серьезности Пикассо. Трогательный в своей гордости и наивности, он сказал ему как-то: «Мы с тобой — самые великие художники эпохи, ты — в египетском стиле, а я — в стиле модерн».
Банкет в честь Руссо стал фейерверком, которым завершился целый период творчества Пикассо. Он стал также и последней попыткой Пабло остаться общительным. «Пикассо принимал у себя друзей или, скорее, позволял, чтобы у него собирались», — говорит Сальмон. Отныне он перестает это позволять, вернее, позволяет все меньше и меньше. Если в тяжелые минуты своей жизни он испытывал потребность в том, чтобы им восхищались и поддерживали его, то теперь врожденная гордость позволяет ему принимать все почести как должное, но они быстро его утомляют, как обыкновенно надоедают разговоры о банальных вещах. Вместе с известностью, которой он пользуется уже среди знатоков, к нему приходит и известность среди широкой публики, что неминуемо превращает его в объект любопытства. Однажды в «Ловком кролике» его узнает группа молодых немецких художников. Они устраивают ему овацию, пьют за его здоровье, затем торжественно несут на площадь Тертр. Чествование затягивается. Особым терпением Пикассо никогда не отличался, шумные незнакомцы ему порядком надоели. Поскольку у него есть револьвер, который он всегда носит с собой, он внезапно выхватывает его из кармана и стреляет в воздух. Звук выстрела был громким и раздался неожиданно. За одну минуту площадь опустела.
Его мрачное настроение объясняется еще и беспокойством за свое здоровье. Ему необходимо знать, что в любую минуту он может располагать всеми своими силами, поэтому он склонен преувеличивать любое, даже самое незначительное недомогание. «Он все больше и больше боялся, что заболеет», — говорит Фернанда. Пикассо считал, что у него чахотка, так как по утрам его одолевал обычный для заядлых курильщиков кашель. «Он волновался из-за всего».
Однажды нервы у него не выдержали. В страхе за свою жизнь, он среди ночи разбудил Андре Сальмона. Тот вызвал знакомого врача, который, смеясь, успокоил Пикассо. Но страхи на этом не закончились.
Гораздо серьезнее воображаемого туберкулеза была реальная болезнь почек. Пикассо садится на строжайшую диету, пьет только минеральную воду или молоко, старается есть почти без соли, питается в основном овощами, рыбой и рисом. «Быть может, именно из-за этой диеты он и был так грустен», — говорит Фернанда.
В 1908 году Пикассо знакомится с Жоржем Браком, вернее, их знакомит вездесущий Гийом Аполлинер. Брак на год младше Пикассо. Фернанда описывает его: «Мощная голова белого негра, плечи и шея боксера, очень темная кожа, вьющиеся черные волосы». Создается впечатление, что Брак намеренно подчеркивает грубость своей внешности резкими жестами и звучным голосом человека из народа.
Нельзя сказать, что Брак готов следовать за Пикассо с закрытыми глазами. По своему умеренному темпераменту он — противник всяческих излишеств и крайностей. В 1905 году он, правда, присоединился к фовистам, но сделал это скорее из дружеских чувств к гаврцу Отону Фрицу, чем из-за сходства взглядов. Он более склонен к нюансам, чем его друзья, и с легкостью выходит из рамок того течения, к которому временно примкнул. Есть в нем осмотрительность ремесленника, ей он обязан своим происхождением, а также тем фактом, что он обучался у декоратора. Поэтому и искусство его построено будет на прочной основе; в живописи Брак работает так, как будто возводит постройку.
Он примыкает к взглядам Пикассо, но весьма осторожно и со множеством оговорок. Деформированность «Авиньонских девиц» его отталкивает, особенно лица двух девушек в центре картины, в центре их лиц Пикассо поместил угол. Пикассо упрямо повторяет: «Но ведь нос именно такой». Брак качает головой, эго его не убеждает: «Несмотря на все твои объяснения, должен тебе сказать: твоя живопись — это как если бы ты заставлял нас глотать паклю и запивать ее нефтью, а потом плеваться огнем».
Однако если нужно потратить много времени, чтобы пробудить его чувствительность, то, согласившись с точкой зрения собеседника, он уже не торгуется и не противоречит. В прошлом году он работал в Эстаке, под жарким южным солнцем, писал пейзажи, в которых ясно угадывалось влияние Сезанна. А через некоторое время после знакомства с Пикассо он посылает в Салон независимых художников большое полотно (это была его первая картина., показанная широкой публике), которое явно было интерпретацией художественного видения Пикассо в «Авиньонских девицах». По словам Фернанды, картину эту он писал втайне от всех, даже от самого Пикассо. «Пикассо был этим возмущен», — замечает его подруга. В воспоминаниях Макса Жакоба также проскальзывает некоторая неловкость, он говорит, что это было всего лишь недоразумение, которое быстро разъяснилось: «Именно Брак первым выставил на суд публики кубистское полотно; это было сделано по причинам, и которые я не хочу вдаваться».
В отчете, написанном для «Литературного и Художественного обзора» Аполлинер высказывается весьма осторожно: «Большая композиция господина Жоржа Брака представляется самым новым веянием этого Салопа. Не стоит, однако, задерживать ваше внимание на общем выражении этой композиции… Перед художником стоит множество нерешенных проблем, и господин Брак лишь подступил к решению некоторых из них». Это было написано 1 мая 1908 года.