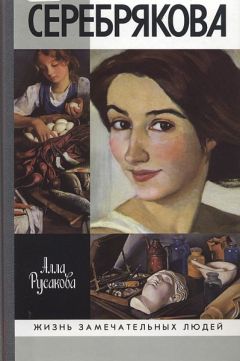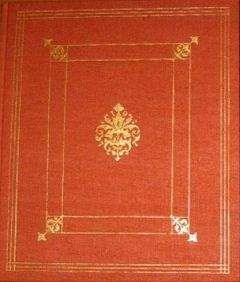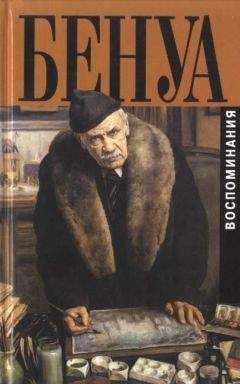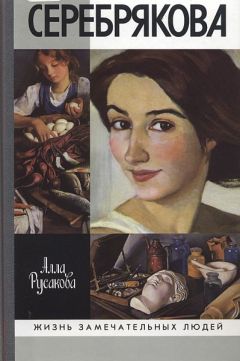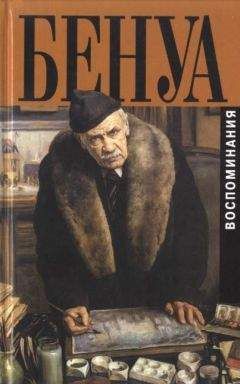В целом же эта многотрудная, но прекрасная в своей законченности монументально-декоративная роспись стала не только своеобразным завершением печально несостоявшихся работ для Казанского вокзала в Москве, но и — по самой своей живописной сущности — реализацией находок «Жатвы» и «Беления холста», сочетавших в своей ясности, четкости, простоте и особой плотности форм высокий реализм с глубоко современной неоклассикой.
Недаром Е. Е. Лансере, которому сестра послала фотографии этих панно, сделав несколько замечаний, в целом оценил их очень высоко. «Так они мне понравились, — пишет он сестре. — У тебя есть именно то, чего нет вокруг: помимо выдумки то, что называют композицией. Они хороши в своей простоте исполнения, завершенности формы, поэтому монументальны и декоративны и помимо сюжета и размера. Ты так хорошо, связно, цельно понимаешь (в смысле передачи) форму предметов. У меня перед столом на стене висят две твоих работы… И вот еще недавно беседовал о рисунке и технике живописи с одним приятелем, художником из Харькова, а он и говорит (указывая на твои): “Да ведь вот то широкое, классическое понимание формы человеческого тела, которое нужно!” <…> Самою складною фигурой мне кажется “Юриспруденция” (с весами внизу). Это панно особенно нарядно и богато заполнено, при всей простоте, скупости, так сказать, украшений, атрибутов. <…> Менее удачна фигура с атрибутами искусства: некоторая жесткость в движениях, в позах… Из лежащих менее нравится повернутая вправо с кувшином, а первым номером я поставил бы (из лежащих) — с колосьями. Завидую тебе, что ты так просто, так гибко, широко и законченно умеешь передавать тело»[137].
Работа над росписями, столь высокими по качеству, не принесла Серебряковой настоящего удовлетворения. Когда она с Александром Борисовичем привезла панно для «примерки» в Бельгию, ее очень расстроило диссонирующее с ними общее оформление холла, в котором росписи должны были находиться: «Дом и зала своей отделкой привели меня в отчаяние, и я не думаю, чтобы мои вещи имели какой-либо смысл в таком безвкусии». Кроме того. Серебрякову беспокоили опасения — возможно, и не совсем справедливые — по поводу расчетов с заказчиком, которыми она поделилась с дочерью: барон Броуэр, как она считала, «скуп до невозможности» и «хочет меня обмошенничать»[138]. Но главное и самое глубокое разочарование, связанное с этой работой, ждало Серебряковых в будущем — как уже говорилось, они были убеждены, что она погибла безвозвратно.
В первой половине и середине тридцатых годов известное удовлетворение — правда, обычно лишь моральное — приносило Зинаиде Евгеньевне участие в выставках русских художников за границами Франции. Так, она экспонировала по нескольку своих работ, преимущественно портретов, пейзажей и «ню», на большой Берлинской выставке в 1930 году и на весьма представительных выставках русского эмигрантского искусства — тогда же в Белграде, в 1932 году в Риге и в 1935-м в Праге. Наряду с французскими мастерами она участвовала в организованных в 1931–1934 годах тематических портретных выставках: женских и мужских, отдельно — детских портретов. Однако она упорно отказывалась в тридцатые годы экспонировать свои работы в Осеннем салоне, несмотря на то, что там выставлялись многие русские художники, в том числе «дядя Шура», который «посылает в Осенний салон много вещей», и его дочь Леля Браславская, «сделавшаяся, кажется, по-настоящему художницей». «Я не знаю, — пишет Зинаида Евгеньевна дочери, — отчего я не пытаюсь выставлять в Салоне», — но тут же сама объясняет причины: «Нет никакой энергии хлопотать о принятии, а если послать без протекции — повесят невозможным образом скверно, и среди 3000 картин ужасного качества все равно пропадешь. А, главное, нет веры, что кто-нибудь оценит и “отличит”»[139].
Конечно, намного более важными для художника являются его персональные выставки. Очень представительная выставка Серебряковой — на ней было экспонировано около семидесяти ее портретов и пейзажей — была открыта в самом конце декабря 1930 года в галерее Шарпантье; еще две прошли в конце следующего года в Бельгии — в Антверпене и Брюсселе; правда, на последней она выставлялась совместно с Д. Д. Бушеном, живопись которого не слишком высоко ценила (впрочем, их работы экспонировались раздельно). Несомненно, очень значительным художественным событием стала выставка у Шарпантье в декабре 1932 года, где были показаны шестьдесят три работы, в том числе сорок марокканских, созданных во время ее весенней поездки в Марракеш, Фес и Сефру. Эта выставка, как уже говорилось, имела большой успех, вызвала приведенный выше восторженный отзыв К. Моклера. Правда, А. Н. Бенуа в одном из «Художественных писем», публикуемых парижской газетой «Последние новости», чрезвычайно высоко ставя «Марокканский цикл» Серебряковой, все же делал оговорку, что ему ближе ее «европейские» работы; но он вообще предпочитал «милую, родную Европу всему чужому»[140]. В парижской галерее Шарпантье в начале 1938 года с большим успехом прошла ее последняя персональная выставка.
Как и ранее, Зинаида Евгеньевна посещает — в основном в сопровождении Екатерины Борисовны — великолепные выставки, устраиваемые в Париже: итальянскую ретроспективу, выставку Рубенса и многие другие. Она пишет старшей дочери в Москву о новой, значительно пополнившейся экспозиции в Лувре восхищавшей ее французской миниатюры, с восторгом рассказывает о персональных выставках А. Гро, К. Коро, «дивного мастера» Э. Дега; делится впечатлениями о выставке английских художников: «Пейзажи Констебля… — просто поразительны — какой импрессионизм!» Покидая Париж, совершая летние путешествия за пределы Франции, она не прекращала ходить по музеям и выставкам. К примеру, экспозицию живописи из мадридского Прадо она увидела во время поездки в Швейцарию.
Но все же художественным центром Европы оставался Париж. «Вот это привилегия Парижа — большие, чудные выставки картин»[141], — пишет Серебрякова, имея в виду, конечно, экспозиции искусства классического. Ведь она все с той же — а возможно, даже с большей — упрямой непримиримостью отвергает все без различия современные искания, не принимая даже искусство великого П. Сезанна, не говоря уже о далеко ушедшей от традиционного реализма, но гармоничной и продуманной живописи Р. Дюфи или изысканных произведениях Мари Лорансен.
Ее же собственное искусство, оставаясь свободным — в пределах полнокровного и достаточно широко понимаемого ею реализма, — не теряет свежести и непосредственности, что видно и по созданным в эти годы портретам, пейзажам, «Обнаженным», пастелям со скульптур. Колоссальная работоспособность Серебряковой, несмотря на ее жалобы в письмах, не изменила ей с годами. Ее существование по-прежнему шло в двух, не соприкасающихся между собой, обособленных сферах: искусстве и остальной жизни, что можно определить как соотношение Бытия и быта, обозначаемого ею как «суета сует». Эти годы ее жизни с особой ясностью показывали, что ее душа состояла из двух не сливающихся сущностей, двух ипостасей: художника и женщины в трудно переносимой ею повседневности. Правда, справедливости ради нужно отметить, что в те моменты, когда необходимо было, преодолевая себя, проявить особую настойчивость и решительность, Серебрякова могла быть сильной, мужественной, какой и показала себя при отъезде из Нескучного в 1919 году, во время тяжелого возвращения с четырьмя детьми и пожилой матерью из Харькова в Петроград в конце 1920 года или, по сути, вынужденного отъезда во Францию. Наиболее ярко это качество проявлялось, когда дело касалось искусства, — в частности, во время дальних, совершаемых в одиночестве поездок, особенно в Марокко, резко отличавшееся от всех виденных ею до того стран. Причем художник обладал несгибаемой живописной смелостью, неувядаемой силой жизнелюбивого таланта, открытого для восприятия и даже поисков прекрасного и радостного, которые стали всегдашним лейтмотивом ее живописи. При этом Зинаида Евгеньевна, достигшая к тому времени пятидесятилетнего возраста, болезненно чутко реагировала на все жизненные невзгоды, преследовавшие ее в так и оставшейся ей чужой Франции. Она постоянно испытывала тяжелейшую тоску и (по признанию, сделанному дочери и старшему брату) отчаяние, еще более обострявшееся ощущением надвигавшегося взрыва мировой войны. «У вас, верно, спокойнее настроение, чем здесь, т. к. здесь война ближе»[142], — пишет она детям во время гражданской войны в Испании, совершенно не представляя себе, как подавляющее большинство эмигрантов и французов, да и вообще жителей Западной Европы, обстановку в Советском Союзе 1937–1938 годов.