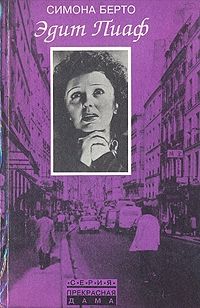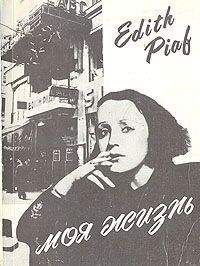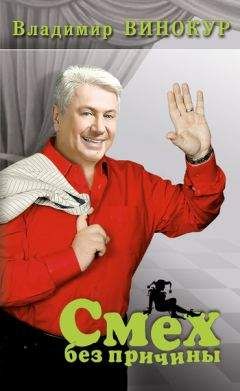В ней было много чистоты и целомудрия. Еще в те времена, когда мы пели на улице, она смотрела на торговок цветами у метро: «Как ты думаешь, когда-нибудь мужчина подарит мне букетик цветов, вот так, на улице?»
С тех пор ей дарили столько цветов, что можно было открыть магазин… Она была довольна, это было свидетельством успеха, но… «Не убеждай меня, что эти готовые букеты дарят от сердца; их покупают за деньги. Вот букетик фиалок, другое дело, это надо захотеть, нужно достать из кармана монеты, а потом нести в руках, не боясь показаться смешным… Это поступок».
Анри это сделал совершенно естественно. Эдит светилась от счастья, она нашла свою любовь.
Официальный разрыв с Полем прошел безболезненно. Они оба устали друг от друга, а усталость облегчает расставание.
Они дождались окончания съемок. Друг на друга они не сердились, каждый был неудовлетворен другим. Поль аккуратно сложил в чемоданы свои вещи. Он поцеловал Эдит:
— Желаю тебе с Анри большого счастья.
Нужно отдать ему справедливость, он не был слеп.
Когда он уходил, мне хотелось сделать ему реверанс, как маркизу, настолько он был в образе.
Глава восьмая. «Биду-бар»
После ухода Поля мы переменили квартиру, но далеко не уехали, а стали жить в доме напротив, соседнем с «Биду-баром». Удобней было бы просто пробить дверь — случались вечера, когда мы не могли попасть ключом в замочную скважину.
Когда Эдит меняла мужчину, она любила менять и обстановку. Она говорила: «Понимаешь, Момона, воспоминания на следующее утро — это как похмелье, от них болит голова. Их надо откладывать на будущее, после того, как сделаешь генеральную уборку и выметешь весь мусор».
У Эдит с Анри отношения сложились сразу: оба были одной породы. Он очень много писал о ней. Ей это нравилось, она понимала, что реклама является составной и необходимой частью ее профессии. «Момона, имя актера это как любовник; если его долго не видишь, если он отсутствует, о нем забывают».
Для Эдит Анри в первую очередь был красивым мужчиной, который ей нравился. Она не подозревала, что он-то и окажется тем автором песен, в котором она так нуждалась.
Анри был полной противоположностью Полю. Он с удовольствием проводил с нами время в «Биду-баре». Я ему не мешала, жизнь втроем его не отпугивала, он ко мне очень хорошо относился, мы сразу подружились.
Однажды, когда мы сидели в «Биду-баре», он сказал Эдит:
— Не знаю, будет ли тебе интересно узнать, но я когда-то писал песни. Мне было двадцать лет. Одну положил на музыку Жак Симон: «Морское путешествие». Ее пела Люсьенна Буайе, но успеха не имела, это был не ее жанр.
— Тем лучше, значит, не сладкая патока.
А что у тебя еще есть?
— Нет, я разочаровался и перестал. Но с тех пор как узнал тебя, начал снова.
Эдит, конечно, бросилась ему на шею.
После Реймона Ассо Анри Конте писал для Эдит большее всех и лучше всех. Его песни всегда оставались в ее репертуаре. Среди них «Нет весны», которую он написал на краешке стола за двадцать пять минут на пари с ней: Эдит поспорила, что ему это не удастся; «Господин Сен-Пьер», «Сердечная история», «Свадьба», «Брюнет и блондин», «Падам… Падам…», «Браво, клоун!».
Я король, я пресыщен славой.
Браво! Браво!
Словно рана — мой смех кровавый,
Браво! Браво!
Эдит хотела, чтобы Анри принадлежал только ей, а он уже долгие годы жил с одной певицей. Не в привычках Эдит было долго делить мужчину с кем-то. Но Анри она все прощала: он умел ее рассмешить. И хотя Анри был любовником Эдит, он не был по-настоящему ее мужчиной, он не жил у нас в доме. К большому сожалению. Потому что тогда мы не прожили бы в таком угаре с сорок первого по сорок четвертый год.
Был разгар оккупации. Запреты, облавы, черный рынок, заложники, объявления с приказами, аусвайсы со свастикой. Было ощущение такой непрочности, что жили кое-как, стараясь урвать от жизни что только можно и повеселиться, когда удавалось. Смех казался «временным», после него наступало похмелье. Никогда мы столько не пили. Надо было согреться и забыться.
Имя Эдит начинало приносить деньги. У нее не было недостатка в контрактах. Она получала три тысячи франков за концерт. Это было немало, но она могла бы получать гораздо больше. К сожалению, у нее не было никого, кто занимался бы ее делами. Иногда она выступала в двух местах за вечер. Получался роскошный заработок — шесть тысяч. Но деньги текли у нее из рук как песок. Во-первых, был «Биду-бар», который съедал немало. Во-вторых, черный рынок. Килограмм масла, стоивший ранее четыреста-пятьсот франков, в сорок четвертом году стал стоить тысячу двести, тысячу пятьсот. Повар Чанг вечером набивал холодильник продуктами, а к утру он оказывался пуст. У китайца была своя тактика.
— Мамамизель, он не любит масла; Мамамизель, он не любит, когда ростбиф, жаркое не целый. Тогда моя унести домой.
И уносил. Чтобы не выбрасывать. У нашего Чанга была жена и пятеро детей. Всех надо было кормить. А у Эдит было много друзей; с одними она только что познакомилась, других знала несколько дней, и все хотели что-нибудь урвать. Каждый изобретал свой способ. Например, сидеть с мрачным видом. Она спрашивала:
— Что с тобой? Почему голову повесил? Выпей.
— Не могу. Душа не лежит. У меня неприятности.
— Любовные?
— Нет, денежные.
— Ну если дело только в этом, можно уладить.
Говоривший на это и рассчитывал.
Другие шептали Эдит на ухо: «Мой отец еврей, он старик. Его нужно переправить в свободную зону. Я боюсь за него. А сам на нуле». «Сколько надо?» — спрашивала Эдит. Тариф был от десяти до пятидесяти тысяч франков, в Испанию даже сто. Если Эдит не могла дать всю сумму, она давала хотя бы часть.
Встречались и женщины, чьих сыновей надо было укрыть от обязательной службы в Германии. Эдит давала деньги; через два-три месяца те же люди приходили с другой историей.
Многие солдатские и офицерские лагеря в Германии объявили ее своим шефом. Она отправляла посылки. Для тех, кто сидел в лагерях, сердце Эдит было трехцветным, как французское знамя, а кошелек всегда открыт. «Я слишком любила солдат, — говорила она, — чтобы их бросить в беде».
Была еще одна категория людей — те, кто старался всучить разные вещи, иногда нужные, а зачастую нет.
Эдит не была тщеславной, но она гордилась своим именем, и тогда играли на этой струне, без конца произнося «мадам Пиаф». Совсем недавно ей говорили: «Эй, девчонка! Греби сюда, у тебя хорошенькие гляделки!» или «Отваливай, девчонка, хватит, надоела!» Легко понять, что она чувствовала, когда ее называли «мадам Пиаф».