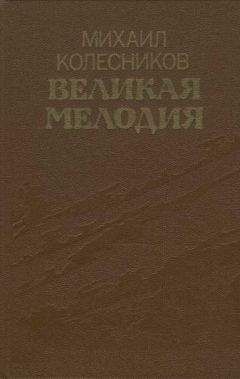Мое внимание, помню, привлек небольшой иззубренный латунный топорик без топорища, украшенный цветочным орнаментом. Он принадлежал отцу Сухэ-Батора Дамдину, а потом перешел к Сухэ-Батору. Осенью 1892 года бедный арат Дамдин, собирая в лесу хворост, случайно нашел этот топорик. А когда через несколько месяцев жена Ханда родила мальчика, его назвали Сухэ, то есть «Топор».
Мне разрешили подержать топорик в руках — странное ощущение. Будто в вещах остается магнетизм того, кто ими пользовался.
С этого, собственно, и началось. Вскоре состоялась встреча с Галсаном, сыном Сухэ-Батора. Он оказался на семь лет старше меня, служил офицером, познакомился я и с Мягмаром, с бывшим адъютантом Сухэ-Батора. Я подарил ему трубку с огромной чашкой, в которую входило полпачки махорки. Трубку раздобыл у знакомого якута в Чите.
Мягмар рассмеялся:
— Такой трубкой можно убить кабана. Я живу в ущелье Богдо-улы, диких кабанов тьма, не дают прохода. Так что пригодится.
Комичность момента заключалась в том, что чашечки монгольских трубок микроскопические — на две-три затяжки. То была трубка для богатыря. В ответ Мягмар подарил мне свою трубку с нефритовым мундштуком.
…Незаурядная судьба, трагическая смерть Сухэ-Батора, внутреннее восхождение сына кочевника к вершинам государственной власти…
Эту судьбу невозможно отделить от многовековой истории монголов. Книга о нем должна была вобрать в себя все, вплоть до быта и легенд. Я вспомнил слова Гете о том, что в любой стране рано или поздно появляется человек, в котором полностью воплощаются черты нации, народа.
Я встретился с женой Сухэ-Батора Янжимой. Ей было под пятьдесят. Летом Янжима жила в юрте, носила дэли. Но на трибуне я видел ее в неизменной гимнастерке. Скуластое лицо казалось отлитым из бронзы. Поражало твердое, волевое выражение неулыбчивого рта. Мы пришли в гости с Марией; наверное, показались ей очень молодыми. Как я подметил, наблюдая за нами, она все же иногда украдкой улыбалась. Мы шли с намерением сразу же заговорить о деле, но, попивая традиционный чай, чувствовали себя в ее обществе так, будто попали к родной матери, и все вопросы вылетели из головы. Нет, я даже не заикался о том, что собираюсь писать книгу о Сухэ-Баторе. В ее глазах мы были просто знакомыми ее сына, добрыми знакомыми, русскими людьми, которых она хорошо знала, так как часто бывала по делам в Москве, говорила по-русски. Чаще всего она встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. Янжима у монголов — имя богини поэзии. Но наша Янжима была богиней женского движения в Монголии, крупной общественно-политической фигурой.
— Вы давно женаты? — спросила она.
— С мая тридцать девятого, — сказала Мария.
— И сразу на Халхин-Гол?
— Да. Я был на передовой, а Мария в это время как гидрогеолог искала воду для фронта, — отозвался я.
Теперь Янжима улыбалась откровенно, обнажив ослепительно белые, ровные зубы.
— Хороший у вас получился медовый месяц. А здесь остались по доброй воле?
— Я захотела сама, — кивнула Мария. — Ну а его намерения совпали с намерениями начальства.
— Пусть намерения начальства никогда не расходятся с вашими, — рассмеялась Янжима. Разговор ее явно забавлял.
Осмелев, я спросил:
— Скажите, Янжима-гуай, а где стояла ваша юрта, когда родился Галсан?..
Через несколько дней Галсан передал мне кипу бумаг, которая хранится у меня по сей день: русский текст на машинке — ни начала, ни конца. Вчитался: подробный рассказ о жизни Сухэ-Батора и его товарищей.
Большие страницы, шрифт голубой. Фразы корявые — сразу видно, что переводил на русский монгол. Тут не было единого повествования: отдельные эпизоды из жизни Сухэ-Батора, Моксаржава, Чойбалсана, Щетинкина, стычки монгольских партизан с унгерновцами. Бесценные детали быта первых революционеров.
По-русски Галсан говорил безукоризненно, так как жил в Советском Союзе; гордился комсомольским билетом, который выдал ему Краснопресненский райком комсомола. Окончил военное училище. Потом его откомандировали в Коммунистический университет трудящихся Востока, где встретил мать; так и окончили они вместе университет. В 1930 году вернулся в Монголию. Был командиром роты в погранвойсках, воевал с бандами.
Потом я встречался с Бумацэндэ, Чойбалсаном и другими людьми, близко знавшими Сухэ-Батора.
Так из живого ощущения Монголии рождалась как бы сама собой книга о Сухэ-Баторе. Первая книга такого рода…
Она еще только рождалась, эта книга. Мне едва перевалило за двадцать. А впереди была целая жизнь, бурная, яркая, подчас трагичная — годы Великой Отечественной войны и послевоенных перипетий, — ведь я носил офицерские погоны до 1962 года! Книга о Сухэ Баторе вышла только в 1959 году. К этому времени я был членом Союза писателей, автором доброго десятка книг. Быстро слово сказывается, да не быстро дело делается…
С тех пор как мы побывали в монастыре Эрдэнэ-дзу, нами овладела тяга к странствиям. Нас привлекал загадочный камень Тайхир, будто бы испещренный древними письменами и придавивший голову мифического дракона, или змея Аврага Могой. Где-то находился затерянный в горах храм Творчества Ундур-гэгэна, где он, возможно, изваял свои лучшие статуи, и они стоят там до сих пор…
Камень Тайхир… Взявшись за руки, мы стояли с Марией у его подошвы и пытались разглядеть письмена. Скала напоминала средневековый замок. Она находилась в широкой долине, и непонятно было, как здесь очутилась каменная стела, вобравшая разноязычные голоса угаснувшей жизни.
Нам казалось, будто камень Тайхир пульсирует. От него исходило слюдяное сияние. Блеклое солнце застыло над Тайхиром. По выгоревшей траве скакал на лошади монгол, переливчато пел. Кое-где горели сиреневым мерцанием тамариски. Здесь материя говорила сознанию о вечности…
Мы медленно обошли скалу, примечая узкие расселины. По укоренившейся геологической привычке взяли образцы. Образцы камня Чинтамани! Скала казалась неприступной. Мы любили лазать по горам и решили совершить восхождение. Оттуда, сверху, наверное, открывается широкий вид на всю долину реки Тамир.
Нашим проводником был Ангира, арат лет сорока, с узким волевым лицом и густыми бровями, сросшимися на переносице.
— Он вразумил нас, — рассказывал Ангира, — и мы создали коммуну. Первую в Монголии. Мы все полюбили Шара Дамдинсурэна. Он жил в моей юрте. Подарил фотографию…
Это нас заинтересовало: Шара Дамдинсурэн! Еще один Дамдинсурэн…
Ночевать мы остались в юрте Ангиры. Молодая монголка, его жена, приготовила соленый чай с толканом, молоком и бараньим салом.
Фотография стояла на узорном шкафчике в переднем углу. Рядом с портретом Калинина. На обороте — надпись: «Андрей Симуков»… С фотографии дружелюбно смотрел молодой человек интеллигентного вида. У него был крупный лоб с залысинами. Голову держал чуть набок, казалось, к чему-то прислушивался. Это и был Шара Дамдинсурэн, то есть Русый Дамдинсурэн, как называли его монголы, советский географ, организатор первого в Монголии сельскохозяйственного объединения.