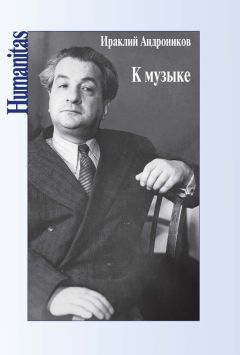У меня в кармане осталось всего несколько лир. Кавалларо задолжал мне уже больше ста пятидесяти, но я не мог решиться напомнить ему об этом. Мы иногда встречались в кафе Тринакрия, оба очень печальные. Враги, которым удалось поставить импресарио в безвыходное положение, преследовали определенную цель: им важно было переманить к себе Титта Руффо и показать его публике в новых операх. И вот сам секретарь Кавалларо, небезызвестный Шиуто, которого импресарио честно оплачивал и всячески обеспечивал в течение девяти месяцев, сам Шиуто, увидев, что теперь мало что можно заработать, состоя при светиле, клонящемся к закату, без всякого зазрения совести взялся выполнить поручение администрации Арены Пачини, а именно — подъехал ко мне с конкретным предложением: если я подпишу обязательство выступать в течение месяца в «Кармен» и «Паяцах», антреприза Арены Пачини обязуется в свою очередь выплатить мне за этот месяц гонорар в тысячу пятьсот лир. Перспектива заработать в короткий срок ту же сумму, за которую мне пришлось месяцы и месяцы работать у Кавалларо, и из этого заработка послать, наконец, маме тысячу лир — перспектива эта была для меня весьма соблазнительной. Но совесть моя не давала мне покоя. Шиуто, видя, что я колеблюсь, пытался убедить и уговорить меня: было бы нелепостью,— повторял он,— и особенно в моем отчаянном положении отказаться от подобного контракта. Я попросил предоставить мне время для размышления и обещал дать ответ через день. Вечером я встретился с Макки, который был в курсе всего происходившего. На его вопрос, намерен ли я принять предложение антрепризы Арены Пачини, я ответил ему так же, как и Шиуто. Макки ни в коем случае не собирался влиять на меня. Между тем я объяснил ему, по какой причине все еще колеблюсь. Ведь срок моего договора с Кавалларо еще не истек, и если импресарио не смог выплатить мне того, что задолжал, то это произошло лишь в силу чрезвычайных обстоятельств. В конечном итоге Кавалларо неукоснительно выполнял свои обязательства в течение всего сезона, и мне казалось нечестным покинуть его до истечения срока договора. И в то время как я излагал все это Макки, совесть взяла верх над материальной необходимостью. Я почувствовал, что согласие мое на выступления в Арене Пачини будет проявлением несправедливости по отношению к Кавалларо, несправедливости, чтобы не назвать это хуже. И тогда я сразу перестал колебаться. Макки очень этому обрадовался. Он, в сущности, любил дона Пеппино и, хотя полностью признавал его виновность по отношению ко мне, все же утверждал, что независимо от материальной заинтересованности. Кавалларо действительно полюбил меня как сына, переживает ссору со мной и особенно то, что не смог уплатить мне заработанных мною денег.
На другое утро Шиуто появился у меня в сопровождении баритона из конкурирующей труппы, некоего Амлето Полластри, моего бывшего соученика по классу Персикини. Полластри пришел не только ради удовольствия меня приветствовать: ему тоже было поручено уговорить меня согласиться на предложение антрепренеров. Что же касается Шиуто, то ему были даны полномочия увеличить предлагаемую мне сумму до тысячи восьмисот лир. Но я уже перестал колебаться и вполне определенно заявил как Шиуто, так и Полластри, что я отказываюсь выступать, у них независимо от суммы предлагаемого мне гонорара. И они ушли весьма разочарованные. Я же после принятого мной решения почувствовал себя гораздо лучше. И еще лучше, когда узнал, что друг мой Руссуманно, человек принципиальный и неподкупный, которого также старались переманить в Арену Пачини, наотрез отказал конкурентам Кавалларо.
Через некоторое время я снова встретил Макки в кафе Тринакрия. Там был и дон Пеппино. Макки посоветовал мне самому сообщить Кавалларо о своем отказе работать у его противников. Это, конечно, так его обрадует, сказал Макки, что вознаградит сторицей за все огорчения и страдания, перенесенные им в связи с катастрофическим концом сезона. Я подошел к нему сзади. «Дон Пеппино,— воскликнул я,— пришло время нам с вами поговорить, сбросить маски и увидеть, что у кого на душе!» Я протянул ему руку и, попросив выкинуть из памяти последний инцидент, сказал, что ему верен, сообщил о выгодных условиях, предложенных мне антрепризой Арены Пачини, и о том, что горжусь своим отказом, так как считаю, что в Катании, кроме него, дона Пеппино Кавалларо, на заключение контракта со мной не имеет права ни один импресарио. Он с силой пожал мне руку и усадил рядом с собой. «Титта, дорогой мой,— ответил он голосом глухим и прерывающимся от волнения,— твои слова — бальзам для моего сердца. То, что ты хочешь сделать для меня, очень великодушно, особенно потому, что я твой должник. Но я не могу допустить, чтобы ты отказался от столь значительной суммы. Ведь я знаю, что у тебя в кармане осталось очень немного лир». «Дон Пеппино,— перебил я его,— не будем говорить об этом. Когда иссякнет то немногое, что у меня еще имеется, то меня выручит ежедневная чашка кофе с молоком и обычные булочки, намазанные маслом; в общем, так или иначе мы устроимся». Не могу описать, как просиял Кавалларо: можно было подумать, что ему сделали какую-то живительную инъекцию. Макки обрадовался не меньше его и уверил меня, что если бы и я перешел во враждебный лагерь, дон Пеппино наверно заболел бы. Он ведь знал благодаря Шиуто, который во всем этом деле играл роль «слуги двух господ», что антреприза Арены Пачини, несмотря на то что публика валит туда валом, терпит большие убытки и главным образом из-за огромных средств, затраченных на уничтожение антрепризы Кавалларо. Знал он также, что антрепренеры предложили мне высокий гонорар в надежде, что смогут значительно повысить цены на билеты, спекулируя на моей популярности.
Сидя вместе в прежнем добром согласии и обдумывая, что делать, чтобы волки были сыты и овцы целы, мы пришли к заключению, что мне надо подписать контракт с каким-нибудь театром, для того, чтобы уехать из Катании и внести некоторые подкрепления в мой карман, почти полностью опустошенный. Кавалларо, преисполненный благодарности, уверял, что он никогда не сомневался в моем благородстве и что совершенный мной поступок достоин моего голоса. Втроем, Кавалларо, Макки и я, мы направились на телеграф, где импресарио написал следующий текст телеграммы: «Антрепризе театра Муничипале Салерно. Узнав блестящем открытии сезона, предлагаю вам баритона моей труппы Титта Руффо, лучший голос в мире. Сможет выступить в «Риголетто», «Фаусте», «Богеме», операх вашего репертуара. Отвечайте Кавалларо, Катания». И, показав мне телеграмму, он прибавил: «Это — ничто. Завтра я напишу всем театральным агентам Милана, и те тысяча восемьсот лир, от которых ты так великодушно отказался, чтобы не подвести твоего импресарио, будут тебе возмещены в самое ближайшее время, клянусь тебе в этом душой моей матери».