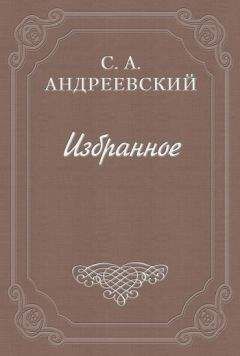Вышел суд. Приказали ввести подсудимых.
Из маленькой двери, ведущей на возвышенное место за решеткой, сперва показались два конвойных с ружьями, затем Каспржак, затем еще два конвойных, за ними Гурцман и еще два вооруженные солдата. Подсудимые смотрели дико. Суд чувствовал себя безопасно, видя хорошую и надежную охрану. Оба преступника были в сером арестантском платье.
Каспржак заметался во все концы отгороженного места для подсудимых, толкаясь между солдатами. Он имел вид, как будто его только что схватили. Это был худощавый красивый человек с косыми странными глазами, с остриженной головой и беспорядочною седоватою растительностью на давно небритом лице. Казалось, что судебный зал представился ему чем-то неожиданным, ослепившим его сразу. Он закидывал голову назад и шагал, озираясь во все стороны, держась большею частью спиною к суду. Гурцман стоял спокойно.
Когда Каспржак угомонился и сел, председатель предложил ему через переводчика обычные вопросы о виновности. Он не встал, а в ответ переводчику сиплым голосом крикнул: «Я сам всех забил». Гурцман дал вполне ясные ответы на все вопросы председателя.
Началось разбирательство.
Все свидетели согласно показывали, что стрелял и наносил раны только Каспржак. Но из путаницы показаний на предварительном следствии о том, кто первым выскочил из квартиры, Каспржак или Гурцман, в обвинительном акте набрасывалось подозрение на Гурцмана, будто он, после выхода Каспржака, приколол умирающих. Намекалось и на то, что Гурцман не перескочил через городового, боровшегося с Каспржаком, а сдернул его с Каспржака. Поэтому оба предавались суду за то, что, завидев из окна приближавшуюся полицию, совершили убийства совместно, по предварительному соглашению… Все это оказалось вздором, то есть плодом канцелярски-мертвенной и неумелой записи показаний судебным следователем. Например, показание главного свидетеля, городового, было записано так: «Все время, пока я боролся с Каспржаком, Гурцман оставался пассивным». Я потребовал прочесть эту часть протокола и спросил свидетеля: «Сами ли вы сказали: „пассивный“, или следователь от себя написал это слово?» – Я не говорил… – Тогда прокурор вмешался: «Но ведь следователь тебе прочел твое показание, и ты его подписал». – Точно так. – Но я переспросил: «А следователь объяснил вам, что значит пассивный?» – Никак нет. – «Не догадываетесь ли вы, по крайней мере теперь, что бы это могло значить?» – Не могу знать.
Жалкий вид имели хозяева квартиры, в которой произошли убийства, сапожник и его жена. Оба содержались в тюрьме уже третий месяц и между собою не виделись. Обоих вводили в зал порознь, в сопровождении двух солдат с ружьями. Запуганные и трусливые, они, чуть не сквозь слезы, горячо доказывали суду свою невиновность. Сапожник только и был виновен в том, что допустил к себе Каспржака жильцом. А его молодая жена, высокая блондинка с детскими глазами, с грудным ребенком на руках, убеждала суд, что после неожиданных страшных убийств она боялась решительно всего, что осталось от жильца в его комнате, и потому выбросила на грязную лестницу какие-то черные кусочки, прикрытые платком (это был шрифт).
Ввели жену Каспржака. Она жадными глазами впилась в мужа, но тот даже не поднял головы. Она подтвердила, что это ее муж. Спросили через переводчика Каспржака: так ли это? Он пробормотал: «То есть моя жена», – и тут же резко добавил: «Естэм Майер»(Я – Майер).
Жена Каспржака не выдержала и тут же беззвучно расплакалась, зажимая глаза и губы платком. Дежурный офицер поспешил поднести ей воды, но она отклонила стакан и тотчас оправилась.
Наблюдая эту сцену, Каспржак с недоумением вслух заметил: «Чего она плачет? Вероятно, она есть хочет? И я хочу есть». Последние слова он произнес так решительно, что суд объявил перерыв для кормления Каспржака.
Воспользовавшись мгновением, пока не были уведены подсудимые, жена Каспржака приблизилась к решетке и, вновь закрывая глаза платком, с отчаянием сказала мужу: «Что станется с нашим Ярославом?!» (их маленький сын)… Каспржак рассеянно молчал.
Заметив попытку жены поговорить с мужем, прокурор, еще не ушедший из залы, резко закричал с своего возвышения: «Господин дежурный офицер! Как вы можете допускать разговоры с подсудимыми!»
Подсудимых тотчас увели.
Жандармы и охрана, составлявшие публику, были настроены непримиримо. В особенности молодые во время перерыва говорили о подсудимых с ненавистью: «Не могло быть иначе… Все у них обоих было заранее подстроено… Стольких повалили… Да после этого невозможно производить обысков». Я чувствовал, что они ко мне относятся враждебно, как к человеку, приехавшему вызволять одного из тех, кто грозит их жизни.
При дальнейшем ходе процесса была, между прочим, оглашена прокламация, которую набирал Каспржак. В ней говорилось о нашем позоре на войне, о негодности правительства, о несправедливости существующего порядка, о трудовых деньгах бедного народа, оплачивающего эту бесплодную бойню, и, несмотря на хлесткую резкость языка, все слушатели, собравшиеся в эти закрытые стены, все, не исключая судей и жандармов, сохраняли спокойное, сосредоточенное выражение лиц, как бы невольно допуская, что, пожалуй, во всем написанном много правды.
Потянулись еще новые и новые показания. Все явственнее обозначалось, что ни одной раны Гурцман не нанес, что он убежал от кровопролития, как убежал бы и каждый посторонний.
Опять перерыв. В жандармской публике изменяется настроение. Я услышал фразу: «Пожалуй, Гурцман отделается»… На лестнице, где мы курили, меня обступило несколько мундирных людей, предлагая спички, желая вступить в беседу. Я не удержался заметить: «А что, господа, ведь в прокламации есть горькие истины?» Более солидные из капитанов задумчиво молчали. Я воспользовался этой паузой и сказал: «То-то и есть. Мудреное дело наша жизнь! Мы легко ненавидим друг друга. А где правые, где виноватые – не всегда разберешь…» Моя аудитория настроилась философски. Прежняя прыть исчезла. И опять все вернулись в залы.
Мы просидели в суде весь первый день и разбирали дело почти до вечера следующего дня. Гурцман иногда вмешивался в показания и разъяснял некоторые подробности, но Каспржак, которому переводилось по-польски каждое показание с присоединением вопроса: «Не желаете ли возразить?», ни разу не взглянул на переводчика и не проронил ни слова.
Нужно заметить, что в виду прежнего подозрения насчет душевной болезни Каспржака, в этот раз на предварительном следствии его осмотрел профессор психиатрии Щербак и нашел здоровым. Однако же, непостижимое равнодушие этого человека, обреченного на казнь, к своей жизни, к семье, к суду и к своему делу, его дикая немота, его лицо, недоступное никаким впечатлениям – все это, видимо, угнетало всех присутствовавших в судебном зале.