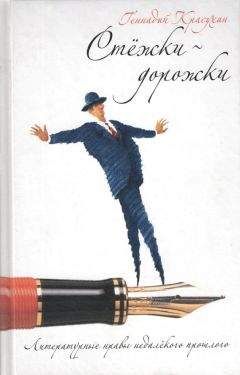Что ж, единожды предавший предаст снова. Мне пришлось убеждаться, что эта истина исключений не знает.
Ещё более серьёзную ошибку я совершил гораздо раньше, когда работал в «Литературной газете». В музее Пушкина жена встретила нашу однокурсницу, которая училась у пушкиниста Сергея Михайловича Бонди и музейной своей работой была недовольна.
В газете практически отсутствовал отдел литературоведения: ушли все сотрудники. И я познакомил её с Евгением Алексеевичем Кривицким, который подбирал людей на освободившиеся места. Кривицкому она понравилась, но, чтобы зачислить в штат, он попросил её написать какой-нибудь подходящий «Литературке» материал. Однако выяснилось, что писать она не умеет. И я взялся помочь ей. Кривицкому пришлось по душе то, что мы сделали в соавторстве, естественно, под её именем. В штат она попала. А мне ещё долго пришлось учить её навыкам газетчика, пока она не овладела профессиональными приёмами.
Зачем я это делал? С ученицей Бонди хотелось говорить о Пушкине. Она представлялась мне единомышленницей.
Но вскоре оказалось, что занимал её не столько Пушкин, сколько желание нравиться начальству. Льстить она умела виртуозно. Такого умения я в ней поначалу не предполагал. В университете мы учились в разных группах, дружеских отношений не было.
На посту заведующей отделом литературоведения, который через некоторое время заняла, она стала более открыто, чем прежде, выражать свои симпатии и пристрастия. Вдруг мне открылось, что она завистлива, ущербна, не терпит одарённых людей. Дальше – больше! Прорвалось и то, что она раньше тщательно скрывала, – её антисемитизм. К ней в газету зачастили «заединщики», как стали называть в перестроечное время ура-патриотов. Это они её протолкнули в Союз писателей и ввели в бюро секции критики.
А в газете, вступив в партию, она вошла в партбюро. Потом стала членом редколлегии.
Изюмов, первый заместитель главного редактора, ей покровительствовал – у них были одинаковые взгляды на происходящее. Но Изюмов не удержался в своём кресле, когда пришёл новый главный редактор Фёдор Бурлацкий, человек демократической ориентации. Это был разгар перестройки – 1990-й год.
Вскоре в редакции разразился крупный скандал. Посол США в России решил познакомить соотечественников с русскими писателями, выражавшими русофильские, шовинистические идеи. Нашу сотрудницу включили в состав делегации. Но кто знает такого писателя? Какие она написала книги? Чтобы у американцев не возникали подобные вопросы, им представили её как члена редколлегии «Литературной газеты». И она вторила прибывшим с ней писателям, возглавлявшим враждебные «Литературке» издания, соглашалась с их политическими и литературными оценками событий и явлений. В редакции взметнулась волна возмущения. «Кто дал ей право представлять в США нашу газету? – гневно спрашивали Бурлацкого на летучке. – Понимает ли главный редактор, какой урон нанесён всем нам?» Бурлацкий отвечал, что понимает и что в газету она не вернётся.
В газету она действительно не вернулась. Выступила в другой, только что созданной, – с открытым письмом Бурлацкому, которого заклеймила как русофоба. Только что созданная газета называлась «День». В выходных данных пробного номера значились два соредактора – А. Проханов и она, бывшая наша сотрудница.
Думаю, что Проханов с ней не ужился, потому что из «Дня» ей пришлось уйти.
Сейчас в журналистском мире вряд ли кто её вспомнит. Какое-то время она ещё была на плаву, «заединщики» её куда-то тянули, а потом всё оборвалось.
Говорят, что она покинула Россию и перебралась к своему сыну за границу, где тот живёт и работает, занялась воспитанием внуков. Но это обстоятельство не избавляет меня от чувства горькой вины. Сколько талантов избивали с энергичной помощью человека, которого я привёл в газету! Сколько бездарей хвалили с её благословения!
Так что – плохой из меня психолог, плохой пророк. О том, каким мне видится нынешнее время, я сказал. А сколько просуществует оно в таком виде, покажет будущее.
С описания дома, к которому мы сейчас пришли, я начал эту книгу. Итак, входим в обширный запущенный вестибюль, где в двадцатые годы располагалась московская редакция берлинской эмигрантской газеты «Накануне». Такое впечатление, что ремонтом не пахло здесь с тех самых пор. Шахты лифтов старинные, с забившейся в сетки пылью. Однако лифты движутся хоть медленно, но исправно. Выходим на девятом этаже, где, как и на других, по обе стороны расположены на равных расстояниях квартирные двери. Гарсоньерки – так назывались в начале прошлого века квартиры для холостых мужчин. За границей их называют студиями. Никого из тех, кто сейчас владеет однокомнатными квартирами или снимает «студии» в этом доме, я не знаю. Жильцов в коридоре видишь не часто. К тому же лифт, на котором мы поднялись, находится рядом с лестницей, ведущей на десятый этаж. А на десятом этаже, как я уже упоминал, размещались кафе «Крыша», кафе-столовая Моссельпрома, издательство «Советский писатель», а нынче – журнал «Вопросы литературы». Окно моего кабинета в редакции журнала выходит на крышу, но попасть на неё, к сожалению, теперь нельзя. Да и что на ней делать? Всё, о чем я писал (смотровая площадка, детская площадка, скверик), уничтожено. А жаль!
К дому Нирензее – «тучерезу», как его в начале XX века прозвали за гигантскую для того времени высоту, влекло многих писателей. В частности, Михаила Афанасьевича Булгакова. Здесь, в квартире художников Моисеенко, он познакомился с будущей своей женой и музой, Еленой Сергеевной, ставшей прототипом Маргариты. Сюда приносил московские очерки, «Сорок сороков», «Похождения Чичикова», которые публиковали в литературном приложении к газете «Накануне».
До революции предприниматель В. Г. Венгеров вместе со знаменитым актёром и режиссёром Владимиром Гардиным основали товарищество «Киночайка», которому принадлежал зимний съёмочный павильон на крыше этого дома. Там, в частности, сняты фильмы В. Гардина по рассказам А. Аверченко – ленты, которые, среди прочих, смотрели в кинозалах дома Нирензее. А после революции – в 1924-м – в доме расположилась АРК – Ассоциация Революционной Кинематографии, у истоков которой стояли Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов.
Близость к Кремлю и правительственным зданиям привлекают после революции к этому дому многих видных партийных и государственных деятелей, которые вселяются в его квартиры. Иным повезло (если уместно здесь это слово) умереть своей смертью, как, допустим, наркому почт и телеграфов РСФСР Вадиму Николаевичу Подбельскому. Или погибнуть в авиакатастрофе (1933-й год), как Петру Ионовичу Баранову, начальнику военно-воздушных сил Красной Армии. Большинство подобного рода жильцов разделили участь командующего морскими силами республики, флагмана первого ранга Эдуарда Самойловича Панцержанского, арестованного НКВД в 1937-м и расстрелянного. Их палачи тоже жили в этом доме. К примеру, Матвей Фёдорович Шкирятов – председатель Комитета партийного контроля, который, как пишет бывший мой коллега по «Литературной газете» Аркадий Ваксберг, «работал рука об руку с НКВД-МГБ, имел «свою» тюрьму, где лично допрашивал особо важных арестантов». Жил в доме Нирензее и Андрей Януарьевич Вышинский.