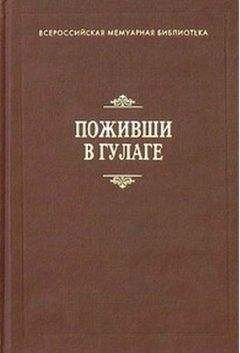Так как он ни в каких делах с революционерами не был замечен, то и после революции мирно продолжал служить в Моссовете, пока наконец в 30-х годах не вспомнили о его прошлом, признали СОЭ и закатали в один из протоколов Тройки.
Среди ночи в крайнее купе нашего вагона посадили какого-то человека, лет тридцати пяти, которого окружало плотное кольцо конвоя с оружием наперевес. Видимо, это было где-то около Казани. Однако через несколько станций его высадили. Кто он? Куда его везли? На расстрел? На пытки? В одиночную камеру тюрьмы?
Через три дня мы были в Свердловске. Нас погрузили в открытую грузовую машину и привезли во двор тюрьмы, усадив на землю. В другом конце двора также находилась группа человек в сто — сто двадцать.
Сидим. Ждем. Двор замыкается в виде буквы «П» огромными тюремными корпусами.
В одном из углов этого двора протоптана кольцевая дорожка диаметром метров двенадцать, с внешней ее стороны — два грибка, под которыми стоят солдаты с винтовками. По кругу, с руками, заложенными за спину, на расстоянии метра друг от друга идут женщины. «Прогулка». Вдруг этот порядок нарушается. Грубые окрики, женский пронзительный крик, плач ребенка, выстрел. Что такое? С одной из заключенных женщин был мальчишка лет четырех; среди камней, на земле, что-то привлекло его внимание. Он крикнул: «Ма, стеклышко!» — и выбежал из строя. К нему с прикладом наперевес бросился охранник. Мать обернулась, закричала и бросилась к малышу. Строй спутался, охранник на другом конце пятачка то ли со страху, то ли по инструкции дал выстрел вверх. Налетела охрана, женщине скрутили назад руки и всю группу пинками и прикладами стали загонять в тюрьму.
Много лет позже, когда стали писать о гитлеровцах, мы и не такое слышали, но тогда это нам было в новинку и произвело тяжелое впечатление.
К ночи нас погрузили в телячьи вагоны специального арестантского поезда.
В товарном вагоне справа и слева были оборудованы двухъярусные деревянные нары. Грузили нас по сорок человек — на каждом ярусе ложилось человек восемь — десять. Лежать можно было только на боку, и поворачиваться на другой бок могли все только враз — иначе не размещались. Откидная дверь снаружи запиралась на засов, вторая была намертво заделана. На полу стояла параша. Ни тюфяков, ни соломы не полагалось. Воды — тоже.
Почему-то память плохо сохранила воспоминания об этом долгом путешествии через Сибирь. Не могу вспомнить, кто были мои соседи, как было организовано кормление арестантов и многое другое.
О чем разговаривали?
Друг о друге узнавали только: статья, срок, как зовут, из какой тюрьмы.
Всех, конечно, интересовал главный вопрос: куда же нас везут? Но это было неизвестно. Долго стояли в Мариинске (между Новосибирском и Красноярском). Здесь крупный распределительный лагерный центр. Однако ночью поехали дальше. Кто-то говорит о Горной Шории — стране рудников, гор и лагерей — и о произволе, который там царит. На вопрос, куда нас везут, ответа не находится. Зато гораздо проще узнать, сколько нас везут.
Когда поезд начинает петлять, вползая в горы, лежащий у верхнего окошка может подсчитать число вагонов. Их оказывается не менее семидесяти. Если даже десять вагонов сбросить на конвой, кухню и т. п., то получается, что каждый такой поезд забирает не менее двух с половиной тысяч арестантов.
Несмотря на то что маленькие окошки товарных вагонов зарешечены, выглядывать из них или даже просто приближаться к ним опасно: стреляют без предупреждения. Тем не менее это единственная связь с внешним миром, и лежащий у окошка должен рассказывать остальным, где мы едем и что он видит.
Право на это место сохраняется в зависимости от таланта рассказчика, а иногда от его уверенности в наличии такового. Снаружи, на тормозных площадках вагонов, расположились архангелы, или черти, фараоны и т. п. Это вооруженные винтовкой и… деревянной кувалдой солдаты-охранники. Чем дальше мы подвигаемся на восток, тем страшнее и безобразнее становится их вид: на шинелях дыры, прожженные случайной искрой или папиросой, лица небритые, все в саже и грязи, руки почернели, человеческие нотки в голосе исчезли — если они открывают рот, несутся какие-то нечленораздельные звуки. Мы им не завидуем и даже жалеем: нелегко, особенно ночью, трястись под пронизывающим ветром, в любую погоду на площадке, где негде укрыться, да еще нужно держать винтовку… Все они простужены, смертельно устали и издерганы. В то время как мы сладко спим, они, если только не в наряде, проводят всякие проверки, тренировки и политучебу — изучают биографию Сталина, историю ВКП(б) и т. п.
Ну, а что ждет неуспевающих — стоит только посмотреть на длинную цепочку вагонов. У тех вагонов, у которых тормозные площадки не предусмотрены, с торца над буферами сделаны временные, из брусьев и с ограждением из колючей проволоки. Это грубейшее нарушение правил эксплуатации железных дорог, и солдат, едущий на такой площадке, в сущности, мало чем отличается от смертника. Но такова воля НКВД. Человек — это только винтик в государственной машине. Если солдат погибнет, матери сообщат: «Погиб при исполнении боевого задания». Пусть думает, что защищал Родину. А может быть, в этом вагоне везли его отца или брата?
На остановках архангелы соскакивали на землю и отгоняли от поезда зрителей.
Не допускалось выбрасывать из вагонов какие-нибудь письма, поэтому если это и делалось, то только тогда, когда поезд трогался и архангелы, подбежав немного, прыгали на свои насесты на площадках.
Помню, однажды такой выкинутый из окна треугольник подобрал замызганный русоголовый мальчишка лет шести-семи и отбежал с ним метров на десять от железнодорожных путей. Поезд почему-то вдруг дернулся и встал. Один из архангелов соскочил и стал кричать мальчишке: «Мальчик, давай сюда письмо, сейчас же!» Однако тот нисколько не испугался, а засунул письмо за пазуху и продолжал стоять. В это время паровоз дал гудок, архангелы бросились на насесты, а мальчишка торжествующе закричал: «Ис цего захотель! Письмо? Накось выкуси!» Расстегнул штаны и показал солдату, что полагалось показывать в этом случае, под сочувственный хохот нескольких баб — свидетелей.
Поезд медленно набирал скорость, и на этого мальчишку многие из нас успели посмотреть, пока над окном не просвистела пуля.
На стоянках, особенно по ночам, устраивались дикие проверки — шмоны.
С лязгом открывалась дверь, подавалась команда:
— Перейти вправо!
В вагон врывались двое охранников и начинали лупить деревянными кувалдами по полу и стенам вагона. Потом людей перегоняли на другую сторону, пересчитывали, простукивали эту часть вагона. Все это происходило при свете факелов, которые держали охранники снаружи, а около дверей рычали, натягивая поводки, специально натренированные для охоты на людей немецкие овчарки. Кроме этого, если не было достаточно длинных остановок, молотьба деревянными кувалдами по стенам и крышам вагонов практиковалась по ночам и на более коротких остановках.