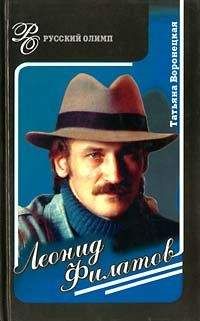— Вы с какого курса? — спрашивал меня педагог.
— С этого.
— А почему я вас не знаю?
— Не знаю.
Все-таки добавлялись неуклюжие объяснения и извинения, после которых обиженный педагог вещал:
— Значит так: через две недели зачет, а вы, моя дорогая, перед зачетом зайдете ко мне на коллоквиум, буду вас гонять по всему курсу.
И меня гоняли. А получала я все равно отличные оценки, зарабатывая повышенные стипендии. Наверное, я была ленива, в отличие от трудоголика Золотухина, который при всем том был еще и каким-то секретарем комсомольской организации — не то факультета, не то курса. В общем, далека я была от всего этого.
Но брак был заключен. «Инициатива исходила от тебя», — сказала мне позже подруга Галка. Наверное, раз произошло — значит, муж. Привела домой, сказав: «Мама, это мой муж». Мама, увидев заявленного мужа, заплакала, да так горько! Предчувствие ее не обмануло. Она видела других соискателей руки и сердца ее дочери, а сейчас перед ней стоял небольшого роста неказистый человек в изношенном зимнем пальтишке, на голове у которого красовалась, будто изъеденная молью, шапка-ушанка ушками вниз. Она была в ужасе. А незнакомый ей человек развернулся и быстро ускакал за водкой. И стали они жить-поживать и добра не наживать.
В этом же 1963 году я показывалась в Театре Моссовета с отрывком из Софроновской пьесы «Обручальное кольцо». Спектакль по этой пьесе шел в этом театре, и Валерий играл в нем небольшую роль. Показалась — не взяли.
Год простоя, год бессмысленного ожидания чего-то.
Вдруг в один из осенних дней прозвучал тревожный телефонный звонок. Звонил директор театра Сосин, который умолял меня сыграть главную роль в этом спектакле.
— У нас ЧП — не может вылететь из другого города актриса, исполнительница главной роли, а отменить спектакль никак нельзя. Прошу вас, не отказывайтесь, — умоляла трубка.
17.00 часов. В 20.00 — начало спектакля. Роли не знаю, спектакль видела два раза год назад. Мне вдруг стало нехорошо где-то там, под ложечкой, затошнило. Придя в сомнамбулическое состояние, не понимая толком — зачем, для чего и чем все это может для меня обернуться, если я соглашусь, не заметила, как произнесла: «Да, хорошо… еду». До сих пор, когда вспоминаю, для меня остается загадкой, откуда взялась отвага? Очень медленно, на ватных ногах доплелась до книжной полки, где, возможно, могли сохраниться старые листочки с текстом единственной, безуспешно показанной сцены. Минут 20 я еще пребывала в неестественной для ситуации прострации. И вдруг, словно какой-то рубильник включил все лампочки организма: прочистились и заработали мозги, враз проснулись все чувства, обозначив два основных — чувство тревоги и азарта, забегали ноги. На улице — сильный дождь. Останавливаю такси. В 18.30 — я в театре с мокрыми от дождя волосами, всклокоченная и внешне, и изнутри. Вокруг суетятся гримеры, костюмеры, артисты. Уши слышали быстрые тексты первого действия. Потом — бегом на сцену, где мне показали поставленный танец. Запомнить все было невозможно, и в спектакле я лихо отчебучивала что-то свое. Золотухин перед спектаклем, придя откуда-то в театр и увидев меня, находился, как говорили, в полуобморочном состоянии. А спектакль прошел прекрасно и был принят зрителями даже лучше, чем когда-либо: постановка старая, и артисты, уставшие ее играть, вдруг ожили, — все были на стреме, готовые прийти мне на помощь, если я вдруг забуду текст, появилась хорошая (едва ли) энергетика, которая не могла не зацепить зрителя. Спектакль прошел пусть нервно, но именно это придало ему свежести. Через несколько дней я получила конвертик с благодарственной бумажкой от дирекции театра. И снова я уселась дома, и вновь потекли безотрадные, бессмысленные дни.
«Ребята, потрясающий театр! Идите и показывайтесь в театр к Любимову. Вы видели „Доброго человека из Сезуана“? Только туда», — встретил как-то нас на улице Р. Джабраилов,[4] и эти его слова определили нашу творческую судьбу. Не раздумывая долго, пришли к Любимову, скрывая, что мы муж и жена, показали «всухомятку» (без концертмейстера) отрывок из оперетты и что-то еще и, счастливые, вернулись домой: мы были приняты в труппу знаменитого театра с уже нашумевшим спектаклем «Добрый человек из Сезуана». В театре уже шли репетиции «Героя нашего времени». Все роли уже были распределены, не было только актера на роль Грушницкого. Валерий вовремя подоспел. Меня же ввели в старый спектакль «Ох, уж эти призраки» Эдуардо де Фелиппо на главную роль. То есть к этому моменту я была счастлива абсолютно. В свои двадцать четыре года я воспринимала жизнь как чудесный подарок, мне данный свыше, и, переполненная через край этой радостью, я как бы одаривала собой мир — беззаботно, легко, весело. Я задыхалась от счастья. Где бы я ни появлялась, все приводилось в движение. Хотелось много-много общаться и, конечно, с шампанским, а потом, очертя голову, нестись в головокружительное «никуда», которое, конечно же, имело адрес моих подруг Елены Виноградовой и позднее — Татьяны Горбуновой. Не обремененная никакими заботами — ребенка еще не было, — я порхала, скользила по жизни. Только дома, оставшись наедине с собой, я успокаивалась, возвращая себя настоящую — себе. Книги, музыка, размышления о жизни… они превращали меня совсем в другого человека, как бы выворачивая наизнанку. Тогда возникало много вопросов про жизнь, про взаимоотношения между людьми, про себя. Меня охватывало абстрактное, но очень сильное желание, подпитанное звучащей Пиаф, сделать что-то хорошее, нужное, быть кому-то полезной, и, казалось, мир перевернется, если я не утолю это желание. Музыка вытаскивала наружу самое лучшее, что было во мне заложено. Кончалось обычно тем, что приходил Золотухин, и мы летели в какую-нибудь его компанию с обязательной пьянкой.
Точно не помню, но это было в первые годы работы в театре. Он в помещении нашего театра что-то репетировал с одной, в то время знаменитой, актрисой другого театра. Уже тогда он вел свой дневник, начиняя его своими страстями, страхами, переживаниями. До некоторых пор мне позволялось его читать, и в один из дней в дневнике появилась запись, где он сравнивал ее со мной, и мучительно решался вопрос, кто лучше — она или я. В результате я одерживала победу: «все-таки Шацкая лучше». Он был у нее дома, почему-то жалел ее ребенка, и по тому, как это излагалось, я поняла, что между ними были определенные отношения, какие могут быть между мужчиной и женщиной. Я будто очнулась и стала хоть что-то понимать про жизнь с ее кошмарными перевертышами, и неожиданно было сделано открытие: верность — не панацея для сохранения брака, а, может быть, даже и наоборот. Меня еще долго не оставляло чувство омерзения и брезгливости, и уже никогда я не смогла простить ему этого первого предательства, которых было еще очень много и потом, но, переболев, мне было уже все равно, и я отпустила человека в «свободное плавание». А внешне для всех мы продолжали жить как всегда: ходили в гости, принимали друзей у себя дома, только у меня немного поубавилось радости, и, к сожалению, появилось раздражение, и не давал покоя неотвязный вопрос: как мог этот человек очутиться рядом со мной, какую злую шутку сыграла со мной Судьба? А в 1968 году, находясь в гостях у Володи Высоцкого и Марины,[5] после очередной ссоры я сказала, что не люблю его, то есть вслух высказала то, чем жила последнее время. А любила ли я вообще? И что я тогда понимала про любовь? Вся забота о нем исходила от моей труженицы-мамы, которая делала все для поддержания дома и семейного покоя. Страдая в одиночестве, на людях я не позволяла себе распускаться и только моим подругам по театру Тане Жуковой и Маше Полицеймако несла свои переживания. Однажды я от кого-то услышала, как Золотухин в кругу наших актрис рассказывал о своих любовных приключениях, как «приезжал в аэропорт, оставлял там машину, летел в Ленинград к своей любовнице, как ее (здесь нецензурный глагол), после чего летел обратно в Москву — домой».