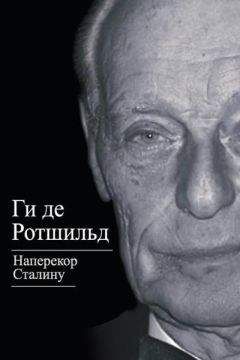– Вот и хорошо, что у нас мыши, – значит, не будет крыс. Мыши и крысы вместе не уживаются. Надеюсь, тебе это известно, – преспокойно ответила Мириам.
К ланчу подавали вино из погребов Ротшильда (не самое лучшее, разумеется) и накрывали как минимум на десятерых – мало ли, кто еще подъедет. Мириам, как и ее сестра Ника, любила животных, но если Ника держала кошек, то Мириам – собак, а одно время даже ручную лису. И Мириам, и Виктор держали ручных сов. Когда любимая сова Мириам умерла, из нее набили чучело и усадили на ту самую книжную полку, где птица обитала при жизни. Длинный коридор при входе в Эштон-Уолд был сплошь уставлен папками с данными научных экспериментов Мириам, а стены гостевого туалета украшали розетки, которыми награждались ее призовые коровы. В моей спальне мыши хозяйничали столь беспардонно, что порой оставляли на полу свои экскременты. Жаловаться было бесполезно: Мириам просто не понимала, из-за чего сыр-бор.
Под конец жизни Мириам переместила свою спальню в большую комнату первого этажа, где едва смогла устроиться между верстаком, микроскопами, бумагами и семейными фотографиями. «Блох я держу в целлофановом пакете возле своей кровати, – твердила она. – Так повелось с тех пор, как дети были маленькими, – чтобы не подпускать их к насекомым».
Насекомые – общая страсть всего семейства. Выяснилось, что Ника была названа в честь насекомого. Из Америки мне прислали бутлег песни «Панноника», которую Монк сочинил в честь Ники. Запись была сделана в кафе «Файв Спот», ее то и дело заглушает болтовня и звон бокалов. Ника сидела среди публики и записывала песню, как у них это было принято. Монк откашлялся, чтобы привлечь внимание слушателей.
– Добрый вечер, дамы и господа, – мягко проговорил он. – Вот вам мелодия, которую я написал для вон той прекрасной леди. Насколько я понимаю, отец назвал ее в честь бабочки, за которой он охотился. Наверное, бабочку он не поймал.
Я спросила Мириам, в самом ли деле Ника была названа в честь бабочки.
– Бабочки! – яростно взревела она и укатила прочь из комнаты в своем скоростном инвалидном кресле с электрическим мотором. Сердце у меня упало: чем я ее задела?
Посвящение Монка к песне позволяло кое-что узнать о мифе, который создавала о самой себе Ника. Она подавала себя как существо экзотическое, легко ускользающее. Заманчивая аналогия: поймать Нику – все равно что углядеть бабочку, когда та носится, танцует, кружит по саду. То ее подхватит непредсказуемый ветерок, то привлечет изысканный аромат, лишь на миг блеснут в лучах солнца ее изысканно расписанные крылья, секунда – и бабочка скроется, погрузившись в цветок, или же, сложив крылышки, прикинется листком или лепестком.
Я решила выяснить, имелась ли в коллекциях отца Ники, Чарлза, или ее дяди Уолтера бабочка «панноника». Оба они за свою жизнь составили обширные коллекции, основная часть которых была впоследствии передана Лондонскому музею естественных наук и положила начало музейному собранию бабочек и насекомых. Особых надежд я не питала: поди найди одну конкретную бабочку среди такого множества. Я обратилась в музей, не рассчитывая на ответ, но, к моему удивлению, меня пригласили посетить запасники музея и выяснить все, что меня интересует, о виде pannonica. Наши предки были не только великими собирателями, но и аккуратнейшими архивариусами: каталоги и перекрестные ссылки позволяли с легкостью обнаружить любую информацию.
Сумрачным ноябрьским утром 2007 года я отправилась в музей Естественных наук на встречу с энтомологом Гейденом Робинсоном. Мы встретились в холле у скелета гигантского динозавра и по сводчатым коридорам, мимо дивных и странных существ, направились в хранилище. Робинсон подвел меня к бесконечным рядам металлических стеллажей. Там я увидела чучело гигантской черепахи, на которой некогда Чарлз и его дочери катались по большому парку в Тринге. Бедное животное умерло от безответной любви (не к Нике и не к Мириам, как заверила меня последняя). Огромный подвал, выдвижные ящики, где на изящных подносах красного дерева хранились образцы.
– Мы почти пришли, – сообщил Робинсон, выходя на середину помещения. (Откуда он знал, в какой стороне искать?) – Бабочки справа, мотыльки слева. Здесь подрод Еиblетта.
Я удивилась: он свернул не вправо, а влево и двинулся в боковое помещение.
– Там же отдел мотыльков, – напомнила я.
– Pannonica – мотылек.
– Мотылек? Вы уверены?
– Вполне. Здесь. – Он принялся открывать ящики со стеклянной подложкой.
– Но она всем говорила, что названа в честь бабочки, – сказала я Робинсону. – В ее честь даже песня написана – «Моя маленькая бабочка». Ее имя всячески обыгрывалось.
Робинсон сердито обернулся ко мне:
– Бабочки – те же мотыльки, только летают быстрее. Люди думают, что бабочки и мотыльки совершенно разные, а на самом деле бабочки составляют всего три из многих десятков семейств мотыльков. Они освоили полет на высоте и дневной полет, а потому и окраска у них обычно ярче, нежели у мотыльков, – но, при всем уважении к знатокам, которые считают бабочек такими эротичными, это те же мотыльки, только приодевшиеся.
– Бабочки вас меньше интересуют? – спросила я.
– Не то чтобы меньше, но я бы предпочел, чтобы они занимали свое место и не лезли на чужое. Бабочки всем нравятся, а мотыльков считают противными – обычные причуды дилетантов. Это заблуждение: бабочки – те же мотыльки, но у них пиар лучше налажен.
Мы отыскали вид раппопiса – скромное маленькое насекомое размером с ноготь мизинца, вовсе не привлекавшее взгляд. Прихватив с собой поднос с образцами, мы вернулись в офис Робинсона. Каждый экземпляр был аккуратно насажен на булавку, снабжен отдельным ярлычком с надписью красивым викторианским почерком. Под увеличительным стеклом мы рассмотрели и слова: сперва подпись NC Rothschild (Чарлз, отец Ники), затем дата – август 1913 и, наконец, место, где был пойман мотылек, – Нагиварад, Бихор. В той самой деревне Чарлз познакомился с Розикой, и сюда семья возвращалась каждое лето повидаться со здешними родственниками, пока не помешала война.
Между 1910 и 1914 годами было поймано около десяти маленьких «панноник». Я смотрела на число 1914, сознавая печальное значение даты: это была последняя охота Чарлза на бабочек. Его здоровье постепенно угасало. Поднеся мотылька ближе к свету, я увидела, что не такой уж он скучный и незаметный. Он был красив, с лимонного цвета крылышками, по краям – оттенка выдержанного «шато-лафита», и я рассмеялась: как уместно оказалось дать Нике имя в честь ночного существа – ведь только с наступлением темноты оживала и «Баронесса джаза».