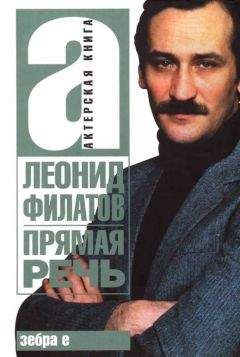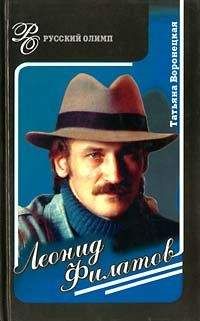Мне кажется, кое-что он придумывал сам: любил и умел рассказывать и петь в дружеском кругу частушки про наши непутевые российские дела. В этих припевках было больше обнаженной правды и острого взгляда на вещи, чем в обычных спорах-разговорах. После смерти отца осталось несколько блокнотов с обилием недомолвок и многоточий — он любил и часто со смаком использовал «нецензурные» слова. Но чаще встречались частушки и довольно мягкие, вроде:
Я каталася на льду,
Простудила ерунду,
А без этой ерунды —
Ни туды и ни сюды.
Наиболее интересными казались мне споры писателей. Скажем, существовали сторонники и поклонники Маяковского, но были и те, кто его вообще на дух не принимал. Полемика вспыхивала особо горячая вокруг Есенина — вокруг его поэзии, его жизни, его человеческого облика, его преждевременной и загадочной смерти. Отец отдал много сил восстановлению славного имени великого русского поэта, пропаганде его самобытного творчества. Он написал поэму о матери Есенина. В этот период его тесно связала дружба с сестрами Сергея Есенина — Екатериной и Александрой, много появилось друзей-есенинцев, среди которых был и известный литературовед Юрий Львович Прокушев.
Обсуждались порой — тогда еще как бы в завуалированном виде, но тоже довольно остро — вопросы, связанные со Сталиным и его временем. Но во всех перепалках и при всех обсуждениях отец всегда оберегал образ одного из своих кумиров — Ильича: ему долгое время наивно казалось, что все беды у нас от Сталина, который извратил Ленина — в теории, в практике, в жизни. А рядом с Лениным — что было, то было! — для отца таким же кумиром стоял Дзержинский (видимо, потому, что его в 20-е годы, как и многих других детей-беспризорников, выловили чекисты и передали на воспитание в детскую коммуну); другими — особы-ми — кумирами были Жуков и Есенин, в несть которого я и получил свое имя.
В восприятии людей многое в те сложные годы складывалось под воздействием жесткой пропаганды и партийного влияния, закрытости и цензуры в печати, в литературе и в искусстве, партийной их направленности, в результате чего трудно было определить истинную ценность той или иной личности. Но отец до конца дней своих так и не смог понять и поверить, что именно ленинская идеология разделила страну на нужных и ненужных людей, на героев и врагов народа. Он, как и большинство его сверстников, долгое время полагал, что это кто-то плохой наверху сдерживает животворные процессы (Сталин, Берия, Суслов…) и, лишь уйдет этот кто-то, — все изменится к лучшему, как в сказке.
Для меня же наиболее ценным из того, что дала мне семья, было общение с людьми, плоды которого остались надолго, они всегда существовали как бы параллельно со знаниями и навыками основной профессии, которой я отдал сорок лет жизни. Это и вывело меня в конце концов на ту активную жизненную позицию, которая подкрепляется желанием общаться с человеком — слушать его и разговаривать с ним. Может быть, поэтому я охотно работал в общественных организациях «Серпа и Молота», на Кубе и в научно-исследовательском институте.
Я начал свой трудовой путь с завода «Серп и Молот», куда пришел после окончания металлургического техникума. В техникуме был секретарем комитета комсомола. И на заводе тоже. Мне тогда еще не исполнилось двадцати. Комсомольская организация завода насчитывала тысячу четыреста человек, но ребят настоящего комсомольского возраста в ней почти не было — основной массе за тридцать. Существовало много проблем и социальных, и политических, и чисто человеческих. Люди жили трудно, именно в эти годы началась хрущевская «оттепель». Она породила новые проблемы для власти — многое нужно было объяснить и на многочисленные «почему» ответить.
Помню, как пришел я в заводское общежитие. Там долгие годы работала воспитателем моя мама. Что такое комната в общежитии, где фактически проживают несколько семей, не имея на то законных оснований, объяснить очень трудно: теснота, постоянный страх быть выброшенным на улицу, умение быстро спрятаться. Вся обстановка — четыре кровати, отделенные занавесками друг от друга и от общего стола в центре комнаты. Жили там ребята, работавшие по основным для завода профессиям: сталевары и вальцовщики, литейщики и формовщики, с женами и детишками… Захотелось им помочь, создать человеческие условия.
Именно у нас на заводе впервые зародилась комсомольская стройка жилого дома. Строителей не хватало, их заработки были низкими, условия работы — тяжелыми, условия быта — еще хуже. Охотников работать строителями было мало, в основном приходили работать за жилье и за прописку в Москве люди с периферии. Чем же хуже, думалось мне, наши рабочие, которые временно могли уйти с основной своей работы и после окончания строительства дома вернуться к ней снова? Стали по путевкам комитета комсомола направлять на два-три года на стройку жителей общежития. Меня поддержали и начальник управления капитального строительства, и директор завода. Мы организовали такую стройку, и острота проблемы была на время снята, но тогда она не могла быть решена кардинально: москвичи идти на стройку не хотели, и приходилось в техническом училище обучать периферийную молодежь основным профессиям — сталеваров, прокатчиков, литейщиков, — сразу поселяя ее в общежитие с последующим направлением на стройку. И так — по замкнутому кругу.
В те времена в столицу ежегодно приезжало около ста тысяч людей различных профессий, большинство из которых оседало в Москве. Фактически Москва в значительной степени застраивалась для обустройства лимитчиков и жителей близлежащих деревень и поселков, что порождало социальную напряженность среди коренных москвичей.
Между тем надвигался Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Подготовка к нему — это бессонные ночи, как в «лучших» сталинских традициях, это впервые приоткрытая информация о жизни нашей страны и других стран, это первые талоны на приличную одежду в специальных магазинах, это новые встречи, которые впервые открывали неведомый и долгие годы закрытый для нас мир.
К тому времени я стал секретарем заводского комитета комсомола и членом бюро райкома. Я пытался увидеть смысл любой работы в ее результатах. Здесь же я иногда терял почву под ногами, не находя ответа на многие вопросы, а самое главное, понимая, что если нас не будет, то ничегошеньки не изменится. А время уходит, его степенно перемалывает будничная мельница — то заседания, то субботники, то массовки, то собрания… И единственные ощутимые результаты — жуткая усталость и пустота. А к этому примешивается горечь от сложившейся в комсомоле чиновничьей субординации, когда ощущаешь себя сталинским «винтиком» в бюрократической машине. Очень было заметно, как комсомольская номенклатура, активно работая локтями, готовится к прыжку в партийную номенклатуру.