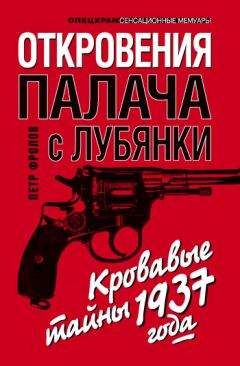В Москве, однако, осесть ему не удалось. В ту пору разразилось громкое политическое дело так называемой «группы Краснопевцева». Уж не помню, как она точно формулировала свои задачи, но провозглашалось возвращение к подлинному марксизму и объявлялась борьба с его искривлениями. То, что позже получит название «За социализм с человеческим лицом». Бывший студент истфака МГУ Краснопевцев и его единомышленники писали теоретические работы, живо их обсуждали, кажется, даже готовили прокламации. Натан в саму группу не входил, но в ней были его товарищи, и работы их он, конечно, читал. А дальше уж как водится: ночной обыск в квартире Натана, многочасовые допросы в КГБ, волчий билет. Его не арестовали, по уголовному делу он не проходил, но из комсомола тут же исключили и из московской школы, где он уже преподавал, немедленно выгнали. Директор школы, очень хорошо к нему относившаяся, сказала: «Натан, сейчас начнется собрание, я буду выступать, говорить про тебя, но ты не слушай».
Делались потом и другие попытки устроиться в Москве. Его согласилась было взять директор Исторического музея, старая большевичка, человек влиятельный, но КГБ наложил запрет: учреждение режимное, находится на Красной площади, подозрительным лицам здесь не место.
Пришлось опять искать работу вне Москвы. Приняли его в краеведческом музее в городе Истре. И, как оказалось, то был его счастливый билет. Приводя в порядок архивы, к которым никто никогда не прикасался, он обнаружил документы, связанные с Герценом, и они дали толчок к серьезной исследовательской работе Натана. Но произойдет это позже. А тогда он очень смешно рассказывал об атмосфере, царящей в краеведческом музее. Коллектив был женский, не случалось дня, чтобы по самым разным, чаще всего ерундовым поводам не вспыхивали склоки, не возникали два люто враждующих между собой лагеря. Каждый из них всячески пытался привлечь Натана на свою сторону. Его затаскивали в какую-то комнату и горячо, перебивая друг дружку, объясняли, какое исчадие ада их недруги. Натан слушал, кивал и говорил, вздыхая: «Да, бывает…» А за дверью его уже поджидали представительницы той, другой стороны. Зазывали к себе и не менее жарко доказывали, что мир еще не видел таких страшных людей, как их противницы. И Натан снова слушал, и снова говорил, вздыхая: «Да, бывает…»
В компаниях, в застольях Тоник всегда держал площадку, лучшего рассказчика среди нас не было. Ему говорили: «Хватит болтать, бери перо и пиши». Но до пера и бумаги руки все время как-то не доходили.
Однажды он зашел в редакцию «Литературной газеты» к своему товарищу Юре Ханютину. (Впоследствии Ханютин с Майей Туровской напишут сценарий к кинофильму «Обыкновенный фашизм».) В кабинете, кроме Ханютина, за маленьким столиком сидела незнакомая пожилая дама. Ханютин неожиданно спросил: «Тоник, а сейчас, в наше время, можно найти клад?» Натан возмутился: «Какой клад? Если ты имеешь в виду археологию…» И стал рассказывать. Ханютин слушал, кивал головой, а минут через пять неожиданно встал и вышел из комнаты. Натан растерянно замолчал. «Продолжайте», — строго сказала пожилая дама: это была стенографистка. И Тоник прочел ей великолепную лекцию об археологии.
Через несколько дней Ханютин взял стенограмму, сказал, что все годится, надо только начало поставить в конец, а конец в начало, и статья Натана о проблемах археологии была напечатана в «Литературной газете».
Так, почти анекдотически, появилась первая, насколько я помню, публикация замечательного писателя и историка Натана Яковлевича Эйдельмана.
Впрочем, в Союз писателей Натан вступил тоже довольно весело.
У него уже вышла книжка о Герцене, появилось «Путешествие в страну летописей», другие книги, они имели успех, ими зачитывались, но на приемной комиссии Союза писателей кандидатуру его каждый раз упорно отклоняли: да, конечно, все это очень интересно и лихо написано, но где же тут литература? Это скорее наука, история.
Не знаю, чем бы борьба с приемной комиссией закончилась, если бы не очередной забавный случай. Как-то в ресторане Дома литераторов (в просторечии мы его называли «гадюшником») кто-то из сидящих за столиком пожаловался: он, мол, взялся составить сборник фантастических повестей и рассказов, сроки поджимают, а материалов нет. Тут же возник спор: можно ли за неделю написать фантастическую повесть. Натан сказал: да, можно. Поспорили на бутылку коньяка и четыре порции шашлыка-бастурмы.
Натан написал в срок. О чем там шла речь, уже не помню, помню только, что главной героиней была… космическая куртизанка. В том самом сборнике повесть эта была напечатана.
И когда в очередной раз Эйдельмана представили на приемной комиссии, докладчик сказал: «Вы говорите — наука, наука, но космическая куртизанка — это же настоящая литература, прекрасный художественный образ». И Натана Эйдельмана наконец приняли в Союз писателей.
«Не можешь помочь — страдай!»
Понимали ли мы, какого масштаба этот человек, как глубоки и блестящи его книги, какую роль начал играть он в нашем, взбудораженном оттепелью шестидесятых обществе? Вероятно, понимали. Но в житейской суете, в повседневных контактах, в шумных застольях, в вываливании друг другу всего, что накопилось на душе, в яростных спорах и в веселых стычках — этого, наверное, не ощущали. Или ощущали не в полной мере. Для нас он был Натан, Тоник, который, проиграв в пинг-понг любимой дочери Тамаре, мог в ярости швырнуть наземь ракетку, а через минуту уже смущенно улыбаться. Который отказывался ехать смотреть свою новую квартиру (тогда расселяли обреченные на снос арбатские переулки), говоря, что ему достаточно увидеть ее план, на Сенатской площади в декабре 1825 года он тоже не был, но по схемам знает, что там происходило лучше, чем сами декабристы. Который, отличаясь драгоценнейшим умением жить вкусно, увлеченно, даже азартно, часто в сердцах пенял мне: «От твоего занудства скисает молоко». А в конце восьмидесятых, в письмах из Москвы в Пицунду, где я каждый год отдыхал, писал: «Сейчас твое время, смотри, не упусти». Он говорил мне: «Вот такой-то (и называл одного из наших близких друзей) — суетный, а ты суетливый». «Почему я суетливый?» — не понимал я. «А потому что уже сегодня ты нервно соображаешь, что тебя ждет послезавтра».
Можно было не видеться с ним неделями, но при встрече оказывалось, что он в курсе самых мельчайших подробностей твоей жизни. Он обладал редчайшим, почти не встречающимся сегодня качеством: каждый, кто с ним общался, чувствовал, как он Натану интересен. И это не было вежливой маской, это было действительно так. Иной раз я даже отказывался его понимать, спрашивал: «Ну о чем ты два часа болтал с этим тупым партийным функционером?» — «Ты ничего не понимаешь, — возражал он, — это такой кладезь информации!»