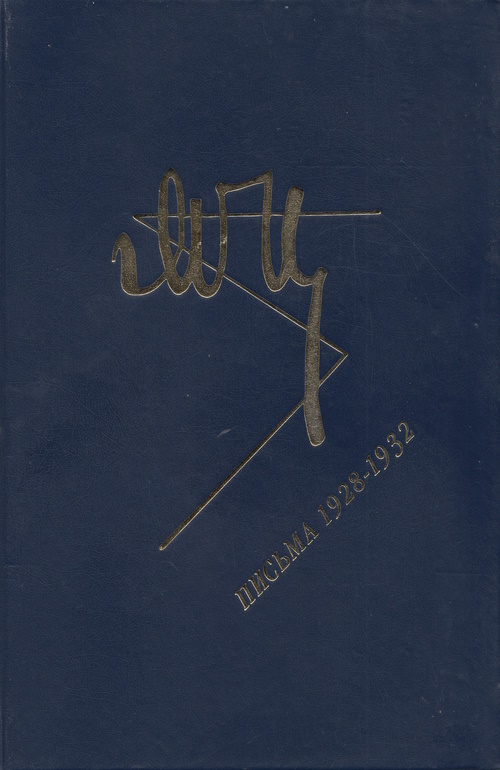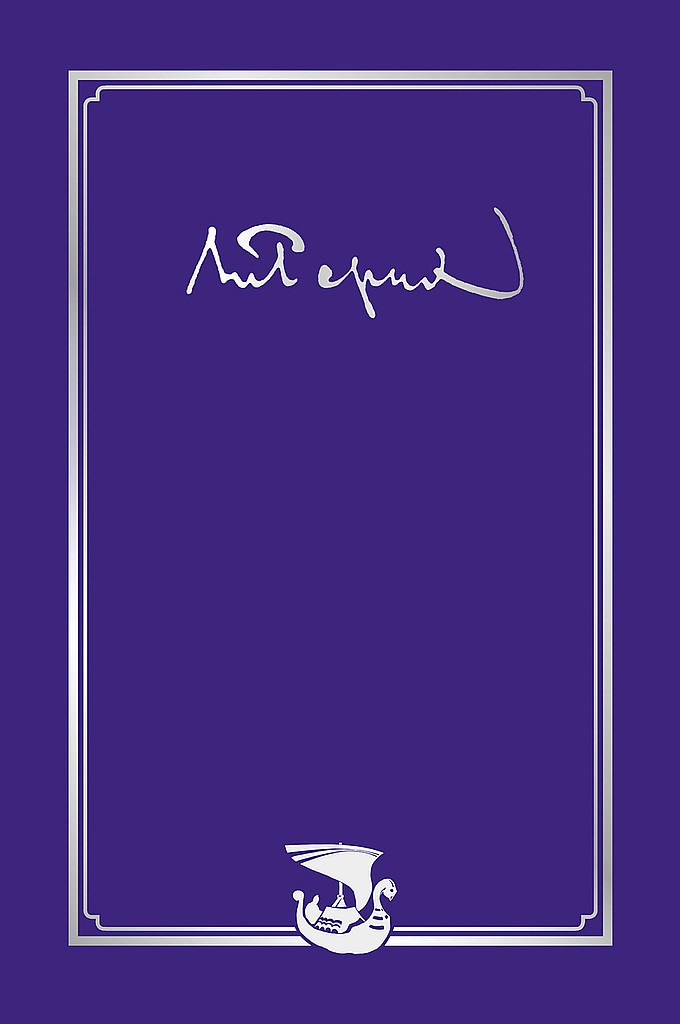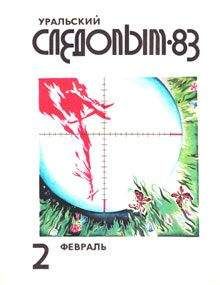византийской письменности 55. Дело, конечно, не в цитировании и заимствованиях, а в том, что восходящий к неоплатонизму тезис о человеке как существе, занявшем место между разными мирами и потому свободном и могущественном, был общим местом тесно связанной с христианским неоплатонизмом православной патристики. Он принят, например, Иоанном Дамаскином в «Точном изложении православной веры» – сочинении, которое было известно и авторитетно на Руси уже с XI века. Можно ли не признать, что это предполагало отличные от ситуации на Западе, исходные позиции для развития религиозной антропологии и зарождения гуманистических тенденции в ней 56?
Но проблема не сводится к вопросу о русских эквивалентах западного гуманизма. Суть ее в том, что отличия в церковных учениях западного и православного христианства сказывались не только в рафинированной мысли теологов-экзегетов и гуманистов, но в той проповеди, с которой церковь обращалась к народу и которая в течение многих веков формировала его ментальность. Насколько специфически незападные черты ментальности русского общества (если признать, что их вообще можно выделить) определялись особенностями церковно-учительной традиции? В чем именно они состояли? Один из самых надежных путей в поисках ответа – изучение приходской проповеди, агиографии и текстов, запечатлевших уже пропущенное через сознание паствы, отраженное влияние проповеди 57. Насколько «оптимистическая» (по сравнению с опытом Запада) антропология православной патристики и нормативно-проповеднических текстов вошла в пастырскую деятельность приходских священников?
В частности, различия религиозно-теологических традиций позволяет точнее и глубже понять роль и место антитринитарных воззрений в истории русских еретических и реформационных движений. На Западе антитринитаризм – или нечто очень маргинальное в опыте средневековых ересей, или признак перехода от, так сказать, «нормальной» или умеренной протестантской Реформации к радикальной. О том, насколько принципиальным был поворот от протестантской «ортодоксии» к антитринитаризму, говорит и сожжение М. Сервета по настоянию Ж. Кальвина, и факт вынужденной эмиграции итальянских антитринитариев в Польшу и Трансильванию, и ожесточенность и острота интеллектуальных баталий вокруг догмата Троицы в опыте западной Реформации. И суть всех этих споров, их центральный нерв и сердцевина – не догмат Троицы как таковой, а соотношение человеческой и божественной природы в Иисусе Христе. Когда же мы сравниваем опыт русских реформационных движений и западных, мы не можем не заметить, что переход от антиклерикализма, критики церкви как института, отрицания основных обрядов к антитринитарным концепциям и к утверждению, что Христос был обыкновенным человеком, совершался с поразительной – с западной точки зрения – легкостью. И особенно удивительно в этом отношении «христоверие» («христовщина») 58, которое, как кажется, никак не вмещается в логику западной Реформации и даже радикальной Реформации. А ведь именно из «христоверия» выросли «сектантские» движения в России более позднего времени.
Как это объяснить? А. И. Клибанов видел в антитринитаризме русских вольнодумцев яркий знак однотипности западных и русских реформационных движений. Но если учесть, что уровень образованности даже элиты русского общества был несравненно ниже, чем на Западе, что в России не было ни университетов, ни схоластики, ни библиотек, аналогичных западным, а на Западе антитринитаризм вырастал на почве именно этой высокой ученой культуры, – то самый факт неожиданной близости русских антитринитариев их западноевропейским единомышленникам не может не казаться парадоксом. Объяснение этому парадоксу можно найти, видимо, в двух обстоятельствах.
Во-первых, от Византии Россия унаследовала напряженное внимание к вопросам тринитологии, отраженным в текстах, переведенным с греческого и так или иначе усвоенным и переработанным на Руси. Как на характерный пример можно указать на значение культа Троицы, в распространении которого А. И. Клибанов видел главный смысл реформы Сергия Радонежского 59, или на попытки русского автора середины XVI века Ермолая-Еразма осмыслить троичность как некий ключ к строению всего мира 60. В этих условиях естественным было обращение и религиозных диссидентов XV–XVI веков к тем же вопросам. Во-вторых, здесь, видимо, сказывались особенности пришедшего на Русь византийско-православного учения о возможности обожения человека. «Идея обожения, так чуждая банального эвдемонизма, была центральным пунктом религиозной жизни христианского Востока, вокруг которой вращались все вопросы догматики, этики, мистики» 61. Суть его ясно передает В. М. Живов:
…человек может проникаться Божественными энергиями и соединяться с Богом. Это соединение и составляет существо святости. Учение об обожении в своих начальных формах складывается в византийском богословии уже в период между Первым и Вторым Вселенскими соборами в писаниях св. Афанасия Великого и каппадокийских отцов (св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Григория Нисского)… [Оно] получило решительное развитие в творениях преп. Максима Исповедника. Преп. Максим пишет об изначальной предназначенности природы человека к обожению… Это предназначение содержится в природном начале человека, в его природном логосе… 62
Возможно, что именно поэтому антитринитарные концепции, которые были атрибутом радикально-реформационных движений на Западе, с относительной легкостью вырастали в контексте православных вероучительных традиций. Антропологический и сотеориологический оптимизм этих концепций был новостью для западной религиозности, вскормленной Августином и августинизмом, но не мог быть революционным в глазах русского книжника.
В целом, религиозная мысль русских «еретиков» старомосковского периода и «сектантов» более позднего времени развивалась в иной системе богословских координат, чем на латинском Западе, и этим объясняется и неожиданно смелый характер некоторых идей русских вольнодумцев, и специфические акценты (особенно – акцент на иконоборчестве) в их учении. Например, одним из последствий «оптимистической» антропологии византийского христианства было то, что ему чужда замена покаяния сатисфакцией, а в дальнейшем индульгенцией. Протестантская Реформация на Западе началась именно с критики индульгенций и той концепции оправдания и спасения, которая за ними стояла. Могли ли эти вопросы оказаться в центре внимания православных верующих?
Были ли Реформация и протестантизм порождением общехристианской культуры, «христианства вообще» – или же они вырастали из специфической, присущей, главным образом, именно западному христианству проблематики? Понимание спасения как оправдания было краеугольным камнем в идеях западной Реформации, и такой подход к сотериологии был чужд традиционной православной религиозной мысли. Но это лишь начало проблемы. Сотериологический принцип протестантизма, развитый и у Лютера, и у Кальвина, и у других теологов западной Реформации, – оправдание «одной лишь верой», sola fide. В нашей литературе этот принцип обыкновенно толкуют в том смысле, что для спасения/оправдания достаточно только веры, а так называемые «добрые дела» (bona opera), то есть почитание святых, заупокойные молитвы, таинства, монашеское служение, излишни. На самом же деле, с точки зрения любой версии протестантского богословия и проповеди, принцип sola fide, оправдание «одной лишь верой», теснейшим образом связан с другим принципом, sola gratia («только благодатью»), и состоит в том, что эта вера не имеет ничего общего с нашей испорченной первородным грехом