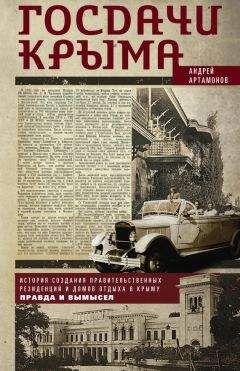В два с половиной года родители снова приехали и увезли меня, уже подрощенного, на Камчатку. На Камчатке, в Елизове, а потом в Петропавловске, я с некоторыми промежутками прожил до шести лет. Помню, что бабушка очень беспокоилась, часто писала, а родители хотя и отвечали ей, но все же письма были много короче, чем бабушкины. По телефону же звонили редко. Помню только один звонок, когда умерла бабушка Паша. Помню, когда мне об этом сказали, я испытал только удивление, хотя до этого мы с ней дружили, гуляли, даже были у нас общие секреты. Я прятался у бабы Паши, когда не хотел есть или ложиться спать. Баба Паша всегда принимала мою сторону, размахивала палкой и защищала меня, а бабушка Наташа выманивала меня из ее комнаты.
Камчатка запомнилась мне как ряд ярких, кратких моментов. Как нас с мамой сдувало ветром с горы, на которой стоял наш дом, и приходилось подниматься спиной вперед. Как во время зимних болезней я сидел дома один и, боясь тишины, бесконечно слушал пластинки. Когда пластинка заканчивалась, я пальцем перебрасывал иголку назад и слушал одну сторону много раз, а когда нужно было все же переворачивать, включал мычащий дневной рамкой телевизор. Как лизнул в детском саду качели и как к ним примерз язык. Но это уже другие истории, не относящиеся к бабушке.
С Камчатки мы перебрались в Москву, так что в первый класс я пошел уже в Москве. Чтобы переехать, пришлось поменять две квартиры: бабушкину двушку в самом центре Запорожья, на улице Лермонтова, и ту квартиру, которую родителям дали на Камчатке. Тогда квартирных агентств не существовало, и обмен между городами был очень труден. Папа вел дела через каких-то квартирных жучков, которые, маскируясь, звонили с уличных автоматов и произносили непонятные слова: квартиры назывались грибами или чем-то похожим. И получалось что-то ужасно смешное, вроде: «Два гнилых гриба на Щукинской с доплатой в пять ягодок». Это означало, что есть неважная двушка на «Щукинской», но хотят в доплату пять тысяч.
В результате двушку в Запорожье поменяли на однушку на Ленинском проспекте, а камчатскую квартиру с доплатой – на двушку-хрущевку на Тухачевского.
Эта была неважная двушка, практически картонная. Родителям она не нравилась, и они стали уговаривать бабушку с ними съехаться. Бабушка сомневалась. Папу моего она не слишком любила, она вообще к мужчинам относилась задиристо, но по мне очень скучала. И она согласилась-таки на обмен, хотя раз пятьсот потом об этом пожалела.
В новой квартире-трешке нас с бабушкой поселили в одной комнате. У меня был диван у окна, у нее узкая кровать у самой двери, у шкафа. Я рос как-то хитро: между дружественным женским началом, которым я довольно быстро научился манипулировать, и недружественным мужским в лице папы, который требовал от меня вечных результатов, спортивных свершений, домашних дел, ответственности и других подобных вещей. Но при этом женское начало в лице бабушки отличалось постоянством, а мужское начало действовало наскоками и потому особенных успехов не имело.
Потом уже, когда сам стал отцом, я понял, как много папа тянул, достигал, добивался, делал для меня и для семьи. Он абсолютно себя не жалел, работая на износ. И еще понял, что он очень любил меня, но любовь была требовательной, мужской, всегда меня оценивающей и всегда мною слегка недовольной, потому что я многое, с его точки зрения, делал не так. «Не по уму», как говорил мой практичный папа.
Папа почти всегда был на работе. Вначале на локаторе, потом на военном заводе, делавшем какие-то платы, потом в Министерстве электронной промышленности. Единственными днями, когда папа бывал дома, были суббота и воскресенье. Для меня это были страшные дни. Страшные, потому что энергия у папы была как у атомного реактора. Сидеть на месте он не мог, газеты читал на лету, телевизор тоже не смотрел – просто не усидел бы на месте. Обычно в субботу он вставал в пять утра и начинал готовить. Готовил столько еды, что хватило бы на целый полк. Обычно это была картошка с мясом или бараньи ребрышки, но всегда в скороварке. Бабушка вечно ворчала, что еда жирная, но мы ели ее с удовольствием.
Часам к восьми папа вспоминал, что у него есть сын и что этот сын до сих пор в постели, в то время как пора убирать квартиру. До сих пор не понимаю, что можно убирать в трехкомнатной квартире так, чтобы жизнь показалась адом. Но надо было чистить все ковры, пылесосить, вытаскивать и выбивать коврики на улице. После уборки начинались лыжи, которые я люто ненавидел. У нас прямо у дома был Тимирязевский лес, настолько близко, что лазейка в лес просматривалась из окна и можно было спускаться по лестнице прямо на лыжах, что я иногда и делал, в надежде поломать кончик лыжи о стену.
Если по какой-то причине срывались лыжи, например погода стояла теплая и снег таял, то их заменял бассейн: запах хлорки, шум, очки, сухость в носу, гудение фена. Бассейн, в отличие от лыж, я более-менее любил, но ненавидел подготовительный период – то есть переодевание, душ, поездку на автобусе. Мне жалко было на это времени, и я довольно быстро научился хитрить.
Весь расчет был на бесстрашие бабушки и на то, что папу она совершенно не боялась. Когда мне не хотелось идти в бассейн или на лыжах, я устраивал показушную истерику. Говорил, что у меня болит горло, голова, неважно что. Тут главное было случайно не назвать какую-нибудь печень, потому что бабушка немедленно стала бы лечить мне печень или таскать к специалистам. Но я, по счастью, вообще не знал, что бывает печень. Вполне хватало головы или горла.
Бабушка, помешанная на здоровье, моментально принимала мою сторону. «Митенька с утра был вялый!» – сразу вспоминала она и начинала наступать на папу. Невероятно, но наступала именно она, хотя была папе ростом по грудь. Я, конечно, моментально прятался за бабушку. Папа, чувствовавший мою хитрость, моментально багровел и терял самообладание. Бывший борец, весивший хорошо за сто килограммов, он хватал крошечную бабушку под локти, приподнимал ее, переносил в комнату и закрывал за ней дверь. Бабушка выскакивала из комнаты, как бойцовский петух, и бросалась на него. Он опять ее уносил, она опять кидалась на него – во второй, в третий раз, и все заканчивалось всегда победой бабушки.
Папа отшвыривал меня и уходил в бассейн один. Бабушка, которой победа давалась дорогой ценой, начинала во множестве глотать сердечные лекарства: она тогда уже часто жаловалась на сердце, а я почти каждую неделю доводил ее до приступов, не то чтобы специально, но всегда давая для этого поводы. Но почему-то мне тогда совершенно не было стыдно: я торжествовал победу.
Радостно забивался в угол бабушкиной кровати, под лампу, полностью выключался и утыкался в книгу. На стене висел ковер, и плечу всегда было тепло. Читал я много, хаотично, то, что мне больше нравилось. Часто читал одновременно три-четыре книги, пропускал пейзажи, диалоги, затянутые сцены, проглатывал по 300–400 страниц в день и зачитывался до того, что к вечеру голова гудела и я становился точно пьяный. Ночью я читал при свете фонарика, откидывая на короткое время одеяло, чтобы отдышаться. Мама относилась к моему чтению одобрительно, она и сама в детстве много читала, открывая шкаф гвоздиком. Бабушка же очень волновалась.