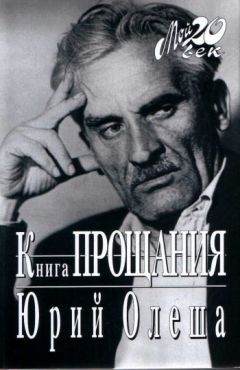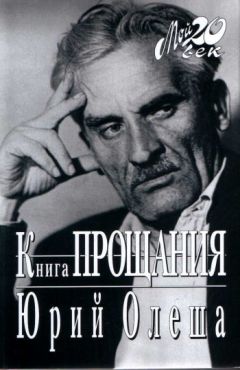С окончанием войны возвращаются все те же проблемы. Но отчаяние, похоже, становится привычным, уходит вглубь.
В 1945 году, поднимаясь в лифте дома в Гнездниковском переулке, Олеша пожаловался случайно оказавшимся рядом людям: «Не умел писать — писалось, сегодня умею — и не пишется»[13].
Олеша запил. По его собственному выражению, стал «князем “Националя”», где просиживал ежедневно, угощаемый сочувствующими знакомцами, друзьями, просто посетителями, знавшими, что за человек за столиком у окна.
Писатель наблюдает себя, спивающегося, опускающегося. Он в ужасе от своего безволия, расценивает алкоголизм как нечто презираемое, достойное бесспорного осуждения.
Спустя два десятилетия Сергей Довлатов уже принимает алкоголизм как норму, единственно возможный способ существования, почти не стыдный (так живут слишком многие), органичный и рутинный. Эпитеты, оценивающие пьющего, будто успокаиваются, нет эмоции напряженного отторжения. А Венедикт Ерофеев превращает алкоголизм в устойчивую, важнейшую тему своей прозы: дефектной жизни одаренного индивидуума в сюрреалистической советской реальности. Как некогда — любовь и ненависть, отцы и дети, преступление и наказание, война и мир, нынче — выпивка и ее последствия.
Наступают пятидесятые. Они будто разделены резкой чертой: до 5 марта 1953 года — и после. Начинается медленное пробуждение страны. Проходит съезд писателей, затем — настает время XX съезда. Из ссылки возвращаются знакомые, но дышать и писать в России трудно почти по-прежнему.
В 1956 году у Олеши выходит томик «Избранных сочинений», переиздаются «Три толстяка», а на страницах знаменитого альманаха «Литературная Москва» публикуется подборка дневниковых отрывков под впервые прозвучавшим названием «Ни дня без строчки». Книги расхватываются, о них говорят. Ни на кого не похожая, цветущая метафорами олешинская проза появляется на фоне, казалось бы поглотившем все прочее, бесцветной, выдохшейся, «неворованной» — по слову Мандельштама — литературы.
В одном из писем к жене Олеша пишет:
«Я кое в чем разобрался, и мне стало легче. Просто та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна — не против страны, а против банды установивших другую, подлую, антихудожественную эстетику.
Что делает Федин? Вспоминает какое-то необыкновенное лето. Катаев? Пишет, уйдя от современности, о Лаврике-Гаврике. Леонов сочиняет какую-то абсолютно оторванную от жизни чушь о русском лесе. Шолохов маниакально пишет одно и то же — “Поднятую целину”, — о которой, когда отрывки появляются в “Правде”, уже нельзя сказать, продолжение ли это, варианты ли, и т. д.
Никто из мастеров о современности не пишет.
Современность — это политика, игра и источником вдохновения быть не может.
Я запил именно оттого, что, сделав, на мой взгляд, очень хорошее произведение искусства, я даже не получил на него ответа…»[14].
Среди тем дневников пятидесятых годов — обретающие сегодня неожиданную актуальность воспоминания о царе, Николае II. Встречи и разговоры с Пастернаком, Нейгаузом, Вс. Ивановым. Болезни и смерти важных ему людей — И.Бунина, Л.Утесова, М.Зощенко, А.Вертинского… Олеша наблюдает собственную старость, грустно размышляет о симптомах старения, «амортизации тела и души», о которых когда-то писал его знакомый, Владимир Маяковский; фиксирует, вызывая в памяти, ощущения молодости. Непременная часть записей о коллегах-литераторах — как тот или иной писатель относится к нему, Олеше, — это ему, находящемуся в положении писателя без настоящего, особенно важно. События сегодняшнего дня: гастроли «Комеди Франсез» («Корнель учил молодежь чести…»), первые атомные взрывы, гибель — в мирное время — израильского пассажирского самолета, сбитого болгарскими ВВС…
В письме к матери от 1958 года: «Внутри совсем не просто, трудно»[15].
Тема, не уходящая со страниц дневников никогда, — литература. Олеша на редкость талантливый читатель. Овидий и Данте, Стендаль и Монтень, Метерлинк и Чехов, Г.Уэллс и Хемингуэй находят в нем благодарного и тонкого поклонника. «Завистливый и тщеславный» (по собственной аттестации) Олеша восхищается даром В.Маяковского и А.Крученых, А.Толстого и А.Грина, Вл. Нарбута и Велимира Хлебникова. Позже в дневник войдут имена нового поколения поэтов и прозаиков: J1.Соловьева, Э.Брагинского, С.Кирсанова, НДумбадзе, В.Голявкина…
Сегодня кажется, что «исповедальная проза» нового поколения писателей, наделавшая много шума в конце пятидесятых, числит в своих прямых литературных предшественниках книги Олеши. Что именно они стали и катализатором поздней прозы В.Катаева — «Травы забвенья» и «Святого колодца» с их так и не привившимся «мовизмом».
Вся литературная жизнь Олеши уместилась в том промежутке отечественной истории, когда о свободном писательстве не могло быть и речи. Тем не менее осторожный и испуганный писатель Олеша всю жизнь делал именно то, что было под строжайшим запретом: описывал страшные сны, предавался непозволительным воспоминаниям, обнажал душу в исповеди… В беспорядочных листках и старых тетрадках таилась крамола…
Когда в начале шестидесятых Виктор Шкловский готовил вместе с вдовой писателя О.Г.Суок-Олешей (им помогал литературовед Михаил Громов) ту, первую книгу дневниковых записей, отбор его был целенаправлен и детерминирован обстоятельствами.
Наивным было бы полагать, что все дневники могли тогда увидеть свет. А те, что были допущены до читателя, были отредактированы до гладкости.
Примеров бесчисленное множество. Скажем, восхищенный отзыв Олеши о поэтическом даре Нарбута публиковался не раз. Но цензура сняла из записи иронический комментарий Олеши о «коммунистичности» Нарбута — и, одновременно, — о святых волхвах, но стихотворение посвящено именно им.
Либо — печатается запись о заметке в «Известиях», в которой речь идет об уникальном мастере, расписывающем арфы золотой краской, и электронной «запоминающей» трубке. «Подумать только, в каком мире мы живем!» — восклицает Олеша, — и фраза эта в печатном контексте звучит восторженно. Между тем восклицание это относится к строчкам, изъятым при публикации: Олеша потрясен введением смертной казни в стране.
Кроме цензуры государственной действовала не столько высоконравственная, сколько ханжеская цензура редактора, имевшая в СССР огромное влияние и по сю пору малоизученные последствия. Все то, что шокировало редактора, «не нравилось» ему, в чем редактор «был не согласен» с автором, убиралось с той же непререкаемостью. В сознании советского редактора, со временем усвоившего ахматовскую мысль о «растущих из сора» стихах, она превратилась в общее место (а «сор» был подменен неким «художественным образом» сора). Вольно растущую дикую траву подстригали, преображая ее в облагороженный английский газон. Не печатали Олешу «некрасивою», жалкого, непривлекательного, временами — отталкивающего. На полях архивных листков изредка встречаются надписи вроде: «Сложная и странная запись, ничего не дающая читателю». Оба эпитета характерны: ждали простого и привычного. Безошибочно купировалось самое благодарное, самое важное — не скажу: «нашему читателю» — но мне, работаюшему в архиве Олеши исследователю. Но ведь я тоже читатель!