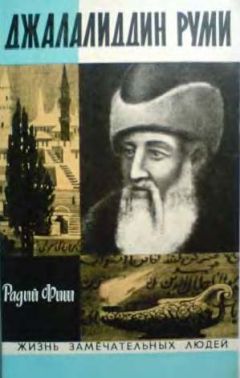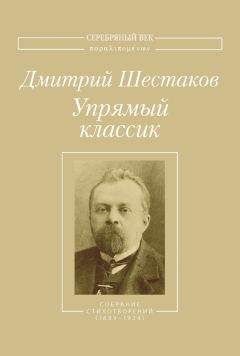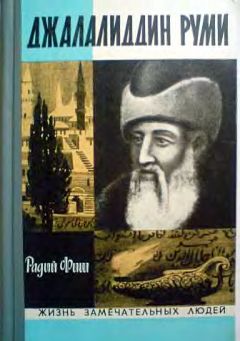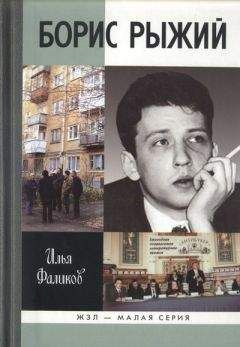Стал появляться во дворце и сам Мадждаддин. Беседовал с Туркан-хатун о пути единения с богом, любовь к коему состоит, мол, всего лишь в непритеснении других, поучал не творить дел, которые заставят устыдиться или смутиться перед лицом Истины, и помнить: «Что бы ты ни делал, бог присутствует». Словом, пытался вести ее по пути очищения, явно надеясь через мать шаха повлиять и на ее сына.
Об одной из богоугодных бесед шпионы, которыми двор кишел, как садок мальками, донесли шаху, причем изобразили дело так, будто речь в стихах и поучениях шейха шла не о божественной любви, а о его плотской страсти к царице, хотя та уже имела правнуков.
Хорезмшах Мухаммад повелел умертвить шейха. Мадждаддину Багдади отрубили голову, а тело его бросили в Амударью.
–
Преподав урок духовенству, шах решил, что может теперь покуситься на власть самого халифа, почитавшегося наместником пророка и главой всех мусульман. Он отправил в Багдад посольство с требованием, чтобы не только в Балхе, Мерве, Нишапуре и других городах Хорасана, но и в столице халифа, в самом Багдаде во всех мечетях читалась хутба — присяга на верность не халифу Насиру, а ему, хорезмшаху. Подобное требование означало, что Насир должен отказаться от власти в пользу хорезмшаха, который, как всякий мусульманский государь, считался подданным халифа. Багдад ответил резким отказом. Тогда Мухаммад потребовал от виднейших богословов своих владений, чтобы они дали фетву, подтверждающую от имени шариата право мусульманского государя, проводящего все свое время в войнах за веру, низложить халифа, который строит козни против него. Духовные отцы, памятуя о судьбе Багдади, скрепя сердце вынуждены были дать такую фетву. Теперь шах счел возможным начать военные действия против халифа.
Зима 1217 года выдалась в Передней Азии суровая. Войско хорезмшаха, отправленное на Багдад, застигли в горах Курдистана небывалые снежные бураны. Легко одетые воины замерзали тысячами, уцелевших от мороза добивали воинственные курды. Из всей рати, посланной шахом в святотатственный поход, вернулось назад лишь несколько десятков человек.
Престижу шаха был нанесен жестокий урон. Но он не образумился.
–
Летом следующего года в город Отрар, лежавший на восточной границе владений хорезмшаха, прибыл торговый караван от Чингисхана. Во главе каравана стояли четыре купца, а всего в нем было четыреста пятьдесят человек — все мусульмане. Купцов сопровождало около пятисот верблюдов, груженных мускусом, мехами бобров и соболей, бивнями моржей и нарвалов, кусками нефрита, а также золотом, серебром и шелками, которые были вывезены из Китая, только что завоеванного Чингисханом. Прибытие торгового каравана вслед за посольством, которое от имени Чингисхана предложило хорезмшаху мир и торговлю, могло послужить началу добрых и выгодных отношений между державами.
Но Мухаммад, одержимый манией величия, приказал задержать купцов как шпионов. Ночью все четыреста пятьдесят человек были зарезаны, а товары пересланы наместником Отрара шаху, который продал их купцам Бухары и Самарканда, а деньги взял себе. Из всего каравана уцелел лишь один человек — погонщик верблюдов. Он и сообщил Чингисхану страшную весть.
Повелитель монголов, памятуя, что властелин гневу своему — всему властелин, отправил к хорезмшаху еще одно посольство. Упрекнув его за коварство, Чингисхан потребовал выдачи наместника Отрара как виновника резни.
Но шах повелел казнить старшего посла, а двух других отпустить, обрезав им бороды.
Тройное святотатство — убиение шейха, поход против халифа и, наконец, избиение мусульманских купцов восстановило против шаха все сословия его державы — духовное, военное, торговое и ремесленное. Улемы и шейхи, не простившие шаху казни шейха Мадждаддина и вынужденную фетву против халифа, не преминули предсказать неминуемую кару господню.
Хорезмшах повсюду имел своих шпионов, содержал специальную службу доносчиков, наблюдателей и гонцов. Но шейхи были осведомлены не хуже, а порой и лучше властителя: ханаки всегда были открыты для божьих странников — дервишей, тысячами бродивших по лику земли в поисках истинных знаний и пропитания. Мастеровые и купцы, связанные уставом религиозно-ремесленного братства, первым делом приносили вести в обители своих духовных наставников.
Преступление в Отраре, убийство посла могли означать лишь одно — войну. И в этой войне с бесчисленными полчищами кочевников, организованных железной волей Чингисхана в небывалую доселе военную силу, покорившую Китай, судьба хорезмшаха и его державы была предрешена.
ПРОРОЧЕСТВО
Мальчик, который зимним вечером 1219 года, зябко кутаясь на ветру, глядел с крыши отчего дома на охваченные закатным заревом Наубахарские ворота матери городов Хорасана, вряд ли все это знал. Но в его ушах гремел многократно усиленный гулкими сводами соборной мечети Балха грозный, как глас самого провидения, голос его отца, проповедника и улема Бахааддина Веледа:
— Я ухожу. Но да будет ведомо, что за мною вослед нагрянет оснащенное, многочисленное, как саранча, закрывающая небо, войско монголов. Согласно священному хадису, гласящему: «Я создал их из гнева и ярости своей!», сие войско господнего гнева и ярости захватит земли Хорасана и, обрушив тысячи мук, заставит народ Балха испить шербет смерти. И будет шах изгнан из страны своей, и умрет на чужбине, безвестный и одинокий.
Дрожь сотрясла тщедушное тело двенадцатилетнего Джалалиддина. «Я создал их из гнева и ярости своей!.. Испить шербет смерти!»
Снова услышал он вопль, исторгнутый словами отца из толпы молившихся женщин, увидел слезы, текущие по седым бородам мужей, дервишей, упавших без чувств на ковры, пораженных страшным предсказанием Султана Улемов.
И хоть юный разум его не мог смириться с мыслью, что все известное ему с рождения, незыблемое, как мир, — эти прочные, как камень, глинобитные стены, мечети, торговые ряды и дома, и кормилица Насиба, и товарищи его детских игр, все эти тысячи, десятки тысяч людей, знакомых и незнакомых, готовящихся сейчас ко сну, занятых своими заботами, — станет грудой костей и праха, он ни на миг не усомнился в истинности слов отца. Отец вдруг представился ему в небывалом доселе свете — грозным, могущественным, бесстрашным, как сам пророк.
Но рядом с благоговением и любовью к отцу что-то еще шевельнулось в его груди, словно проснувшаяся змея. Умей он тогда, как умел сейчас, называть неназываемое, видеть невидимое, он сказал бы, что то была змея отчаяния. Но он тут же загнал ее во тьму.
Откуда ему было знать тогда, что познания, даже самые обширные, если нет в сердце любви к людям, бесполезны, мало того, отвратительны. И чем эти знания больше, тем страшнее.