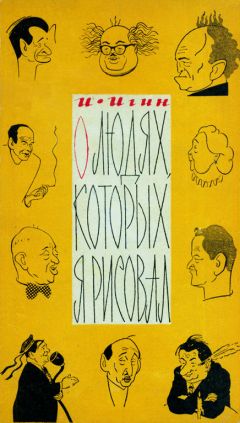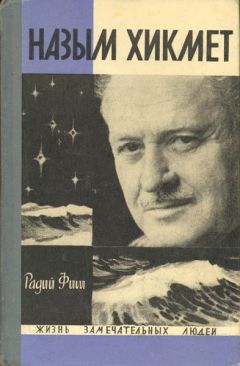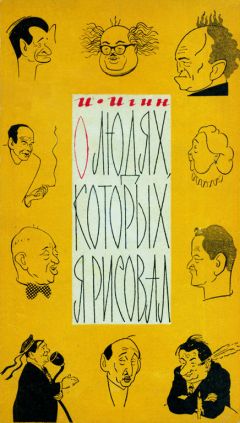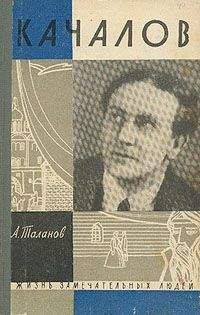— Вот и хорошо, — сказал Моор, — а меня совсем замучила астма. Вряд ли смогу рисовать. Хватит, пожалуй, для стенгазеты десяти шаржей. Тем более что ты нарисовал всех «китов».
— Но редколлегии, наверное, важно, — сказал я, — чтобы были рисунки с подписью Моора.
— Чепуха!.. А впрочем, если уж так, — улыбнулся Дмитрий Стахеевич, — давай я подпишу несколько рисунков. Пусть не тормошат больше ни тебя, ни меня.
Он подписал, не выбирая, три рисунка.
В перерыве совещания шаржи висели в фойе на стендах. Собралась толпа. Мы с Дмитрием Стахеевичем подошли тоже. Среди зрителей был искусствовед С.
— Вот видите,— сказал он, показывая на рисунки с подписью Моора, — сразу чувствуется рука мастера. А здесь, — жест в сторону остальных рисунков, — здесь еще надо работать и работать.
Особенно досталось шаржу на Ю. Толубеева.
— Обратите внимание, — сказал С., — характер не выражен, плечо не на месте…
Моор посмотрел на меня.
Я увидел глаза, запомнившиеся мне на плакате, — светлые, круглые, призывающие стрелять.
Ю. Толубеев
— Простите, — сказал он, — мы рисовали этот шарж вместе, но я второпях забыл подписать его.
Он вынул из кармана карандаш и поставил свою подпись рядом с моей.
Глаза его потемнели, веки сблизились в улыбке.
Дмитрий Стахеевич тронул меня за руку а сказал:
— Пойдем…
1950 год. Заседание редколлегии журнала «Октябрь». Рисую Федора Ивановича Панферова. Обсуждают повесть писателя К. (человека уже почтенного возраста). Общее мнение: повесть слабая — печатать нельзя.
Один из обсуждающих: А ведь писателя К. тридцать лет назад за достоинство стиля хвалил Горький.
Панферов: Беда К. в том, что он в это поверил. А вот меня, с легкой руки Горького, тридцать лет ругают за недостатки стиля. А я не верю.
Ф. Панферов
Почти всегда, когда я встречал Владимира Яковлевича Хенкина, он заводил разговор о том, как надо исполнять трагические роли. Либо критиковал разных Гамлетов, Арбениных, Лиров, либо объяснял и показывал, как бы он их играл.
Была какая-то одержимость в том, что, самим богом созданный для комедии, Хенкин упорно изучал и обсуждал роли, не свойственные его амплуа.
— Вы, дорогой, не удивляйтесь, — говорил он, словно оправдываясь, — комиком может быть только актер, понимающий природу трагического.
Однажды Театр сатиры показывал в Доме актера отрывки из водевиля «Лев Гурыч Синичкин».
Хенкин гримировался в кабинете директора. Зеркало было расположено над высоким камином. Чтобы видеть свое отражение, низенький, раздетый до пояса Хенкин уселся на спинке стула.
— Посмотрите на этого Аполлона, — позвал меня в кабинет известный конферансье А. А. Менделевич. — Вы не находите, что он просится на карандаш?
Я сделал зарисовку.
Загримировавшийся Хенкин долго рассматривал шарж, затем молча пошел на сцену.
В. Хенкин
В антрактах он был неразговорчив.
И уже после концерта, сменив костюм Синичкина на свой, обычный, он попросил еще раз показать рисунок.
— М-да, — сказал он сокрушенно, — с такой фигурой Фердинанда не сыграешь.
На тематических совещаниях в редакции журнала «Крокодил» художники всегда что-то рисуют. Либо эскизы к теме, либо друг друга. Во время таких совещаний я несколько раз рисовал Михаила Михайловича Черемных.
Однажды, взглянув на мою зарисовку, Михаил Михайлович сказал:
— Я каждый день тщательно причесываю свою шевелюру, а вы ее настойчиво не замечаете, — и пририсовал поперек лысины три волоска.
Высокий, не по годам стройный, размашистый, улыбающийся, он был прост в общении с молодыми, никогда не подчеркивая своего превосходства.
Как-то ему показали рисунок неизвестного начинающего художника и спросили, какого он мнения о способностях автора.
— Видно, что способный парень, — сказал Михаил Михайлович. — Но чтобы стать художником, надо много поработать.
А. Менделевич
Рисунок повернули обратной стороной, где стояла фамилия автора. Все дружно рассмеялись. Это был рисунок раннего Черемных.
Как-то, жарким летним днем, прогуливаясь по Тверскому бульвару, я встретил Михаила Михайловича. Я никогда не видел его таким нарядным. Казалось, складки брюк еще хранили тепло утюга. Пиджак был застегнут на все пуговицы, начищенные ботинки отражали небо.
Он шел, высоко подняв голову, торжественный и сосредоточенный.
Михаил Михайлович не заметил меня.
Я пошел за ним следом. Пройдя почти весь бульвар, уже возле Никитских ворот я окликнул его.
Он вздрогнул, остановился, не узнавая, взглянул на меня, снял очки, протер их платком, потом надел, еще раз посмотрел на меня, схватил за руку и стал трясти ее.
— Что с вами, — спросил я, — вы какой-то не от мира сего.
— Да, — ответил Черемных, — это вы верно… действительно не от мира сего…
Был я сегодня на просмотре Дрезденской галереи. Что ни зал — полно чудес. Можно годами смотреть. А меня нетерпение гложет: когда же, думаю, до Сикстинской дойдем. Столько о ней слышано, столько читано, четыре столетия столько разговоров… Какая же она?
Наконец пришел.
Стою и… глазам не верю. Она! Конечно же — она! Сотни репродукций видел. Знал ведь, что такая. И все же — увидел неожиданное. Так просто, так спокойно, что даже растерялся.
М. Черемных
И люди рядом — возле других картин — спорили, делились мнениями. А тут — смотрят и молчат. Словно не она перед ними, а они перед нею.
Прошло, может быть, минут двадцать, а может быть, два часа. Я вышел из музея.
А меня будто кто за руку взял и назад ведет.
Только мне не по себе, словно что-то не так сделал.
Посмотрел я на свои запыленные ботинки, неглаженые брюки, и неловко мне, стыдно стало — как же это я так?
Ушел домой. Побрился, переоделся и теперь вот… иду…
Мне давно надо поговорить с Ираклием Андрониковым по чрезвычайно важному делу.
Мы несколько раз уславливались о встрече. И встречались. Но каждый раз, едва я открывал рот, чтобы изложить суть дела, он уже говорил.