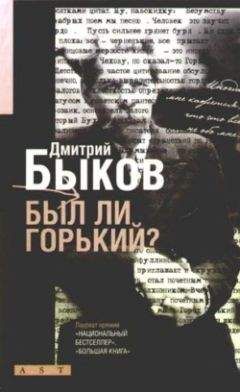4
…По возвращении Горький надолго прервал работу над романом, как и предполагал в Италии: появились новые заботы. Его поездки, планы, встречи, его семью и контакты плотно курировали чекисты. Уроженец Нижнего Новгорода Генрих Ягода, молодой заместитель руководителя ОГПУ Менжинского, втерся в горьковскую семью и числился среди ближайших друзей Буревестника. Именно Ягода был впоследствии обвинен в попытке государственного переворота и в отравлении Горького. О государственном перевороте он, может, и мечтал, потому что был патологическим карьеристом, но в действительности с ним произошло лишь то, что сам он без устали проделывал с другими: он стал жертвой такого же сфабрикованного дела, как организованное им лично «Шахтинское». Ягода был своим человеком в доме Горького и, по слухам, лично подсказал ему идею поездки на Соловки – в Англии к тому моменту вышла книга единственного выжившего беглеца из Соловецкого лагеря особого назначения, ингуша Созерко Мальсагова «Адские острова: советская тюрьма на Дальнем Севере». Нужно было срочно опровергнуть ужасы, о которых рассказал Мальсагов. Впрочем, Горький рвался на Соловки по собственным мотивам – он желал увидеть лабораторию, в которой выводят нового человека. Эта поездка осуществилась в его следующий визит (окончательное возвращение состоялось только в 1931 году).
Горький удивительно много ездил в 1928 году. Сразу же он вызвал к себе Федина – одного из «Серапионов», из любимцев, и Федин немедленно приехал из Ленинграда к нему в Машков переулок – Горький остановился у первой жены, Екатерины Пешковой.
«Почти семь лет я не видел Горького, но шел к нему с чувством, будто все время не расставался с ним. Не успел я ступить в маленькую столовую, как Горький вышел из соседней комнаты, быстро распахнув дверь. Он постоял неподвижно, потом протянул обе руки. Он показался мне похудевшим, удивительно тонким, элегантным и таким высоким, что комната словно еще уменьшилась. Он постарел. Нельзя было бы найти на его лице и тени дряхлости, но морщины стали очень крупными, голова посветлела. Сила его была прежней – я услышал ее, когда он меня обнял.
– Ну-с, вот видите ли… – произнес он тихо.
Пальцы его барабанили по столу. Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания. Он увлеченно рассказывал мне об Институте труда. Вот, пожалуй, новая, мало известная мне черта: Горький благодушен».
Благодушество было вызвано, понятное дело, не только атмосферой всеобщего подъема и энтузиазма, но прежде всего небывалым вниманием, которым он был окружен. Он признавался Федину, что иногда ему кажется: все это не о нем, а о другом человеке, каком-нибудь его двоюродном брате. Кажется, он для того только и позвал Федина, чтобы продемонстрировать ему этот накал всеобщего обожания: специально повез его с собой на машине в Госиздат – а там люди, десятки людей, с папками, с рукописями, с заявлениями, обоих изрядно помяли, требуя выслушать, прочесть, войти в положение… Видимо, тут были не одни литераторы – графомания в СССР тогда не приняла еще столь массовых масштабов, – но и простые жалобщики, знавшие, где застать Горького. Как бы то ни было, по сравнению с итальянским существованием, где он не пользовался ни такой славой, ни таким доверием, – это было счастьем. Желая им насытиться, он принялся неутомимо колесить по стране: 20 июля 1928 года – он в Баку, на промыслах «Азнефти», потом выступает на пленуме местного совета и беседует с рабкорами. 22 июля он уже в Тбилиси (там чествование). 24 июля он захотел посетить детскую колонию в Коджорах (о причинах этого настойчивого интереса к местам заключения и перевоспитания мы скажем ниже). 25 июля он в Ереване, 26-го вернулся в Тбилиси, 28-го выехал во Владикавказ, оттуда – в Царицын, ныне Сталинград, и оттуда привычным маршрутом до Казани отправился по Волге. 2 августа он выступал в Самаре, 3 августа приехал в Казань, вечером 4 августа выехал в Нижний и 7 августа прибыл туда. На родине провел три дня и 10 августа выехал в Москву. Такого распорядка не выдержит иной молодой, а Горькому только что исполнилось шестьдесят. Примечательно, что он проезжает на автомобилях и пароходах по тому же маршруту, которым в 1892 году шел с Волги на Кавказ – только в обратном направлении. Замысел книги «По Союзу Советов» как раз в том и состоял, чтобы ответить на собственную книгу «По Руси», включающую мемуарные очерки девятисотых годов. Разумеется, увидеть что-то из окна автомобиля, да во время беспрерывных чествований и встреч с рабкорами, да еще в таком темпе – нереально: хоть в очерках и подчеркивается – «едем неспешно», – однако график его перемещений говорит сам за себя. Правда, успел он заметить многое, подтвердив и зоркость, и памятливость: в очерках множество имен, фактов, наглядных достижений – хотя видит он только витрину, но витрину эту рассматривает внимательно. Больше всего его восхищает организация труда и чистота.
Что чаще всего ставят Горькому в вину – так это очерк «Соловки», написанный в 1929 году по итогам двух дней, проведенных на Соловецких островах, – 20 и 21 июня 1929 года (он прибыл туда на печально знаменитом пароходе «Глеб Бокий», доставлявшем на Соловки заключенных, но прибыл, что примечательно, в обществе самого Глеба Бокия), – а также редактирование книги о Беломорканале, которую Солженицын назвал «первой книгой в русской литературе, воспевающей рабский труд». С этим определением не поспоришь, но как раз эти грехи Горького – не то чтобы самые простительные (это вообще решать не нам), но самые объяснимые, вытекающие из самой природы его таланта и мировоззрения; не огрехи, не частные отступления от безупречной генеральной линии, но проявления подлинной его сути. Человек есть то, что должно быть преодолено, – формула Ницше, горячо воспринятая Горьким, а может, постигнутая самостоятельно до всякого знакомства с Ницше. Человек должен на каждом шагу преодолевать себя, расти над собой, себя воспитывать – а если он не занимается этим сам, это сделают другие. Горький воспринял Соловки как лабораторию по выведению нового человека. Страшно сказать – как во всякой научной лаборатории, для эксперимента тут был взят отбракованный, порченый человеческий материал. Могут сказать, что это ничем не отличается от нацистских экспериментов над людьми, но нацистские эксперименты отрабатывали технику убийства, а чекистские как-никак – по крайней мере в двадцатые, когда труд заключенных еще не применялся столь массово, – были направлены именно на формирование новой людской породы. Над заключенными Соловков не ставили химических опытов, их не морили ядами, не погружали в кислоты или морозильные камеры – словом, попытки уравнять чекистов с доктором Менгеле свидетельствуют лишь о глупости уравнителей; но объяснять создание Соловецкого лагеря одними лишь экономическими соображениями вроде массового использования труда заключенных было бы неверно. У советской власти были не столько экономические, сколько теоретические амбиции (что и сделало советский проект столь живучим, столь легитимным в глазах прогрессивного человечества): имелось в виду лабораторным путем создать из воров, мошенников и инакомыслящих другую человеческую породу, не просто перевоспитать, а полностью пересоздать! Почему для эксперимента были взяты именно эти категории населения – понятно: они уже находились в распоряжении экспериментаторов, их не надо было искусственно сгонять в бараки. А не выйдет – не жалко: материалец бросовый, уголовный элемент да старая интеллигенция, которой все одно помирать.