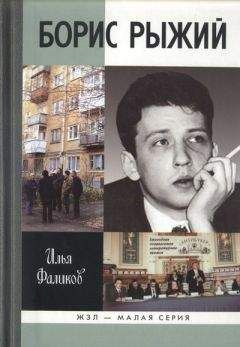Я перестал быть литкружковцем Брика. Три или четыре месяца спустя наши встречи возобновились на территории Лили Юрьевны.
В этих мемуарах, пожалуй, слишком мало про Брика и слишком много обо мне. Но я помню некоторые разговоры с О. М.
Однажды я вычитал у кого‑то из формалистов (наверное, у Шкловского), что новый поэт обязательно оспаривает и разрушает формы старого поэта и канонизирует младшие линии. Значит, нам с товарищами придется разрушать форму Маяковского. Это умозаключение я решил проверить у Брика. Он ответил, что литературные революции бывают редко и моим товарищам предстоит осваивать завоеванные футуристами территории, а не захватывать новые. Это нам не понравилось. Мы хотели захватывать.
Рассказ Брика о Безыменском — тот прослышал, что стихи «Горе от ума» стали пословицами, и решил навыдумывать побольше пословиц, а потом приписать к ним комедию («Выстрел»).
Рассказ о Луначарском, о его творческом методе: целый день трудиться в Наркомпросе, а пьесы писать по ночам, когда мозги не варят. Брика (и, по его словам, Маяковского) очень веселили пьесы, написанные неварящими мозгами.
Сцена, коей я был случайный свидетель.
Лестница Литературного института, большая перемена. Встречаются О. М. и Сельвинский. Оба держат в руках только что вышедшую книгу стихов Эренбурга. Взаимно ухмыляются. Открывают книги, каждый свою. Показывают друг другу рифмы Эренбурга. Расходятся.
Битвы с конструктивистами тогда еще были свежи в памяти. Однажды, провожая Сельвинского домой, я спросил его (видимо, в слишком общей форме):
— Какой был Маяковский?
Сельвинский ответил:
— Маяковский был нахал.
За столом у Лили Юрьевны я из тех же человековедческих интересов после многих иных тостов поднял рюмку за Сельвинского. Произошло недоумение, но Лиля Юрьевна выпила со мною и Кульчицким, сказав: «А что же, Сельвинский талантливый поэт», — и что они дружат.
Брик очень ценил Кульчицкого, выделял его из нашей компании. На семинаре, который он вел, Кульчицкому было устроено особое чтение и обсуждение. Брик особенно хвалил строку из стихотворения о Пастернаке: «Стыд рожденья звезд» — и высказывался в таком духе, что Кульчицкий гораздо лучше Слуцкого.
О. М. рассказывал, что Булгаков читал во МХАТе пьесу «Заговор». В первом действии заговорщики сговаривались. Во втором они убивали Сталина. В третьем рабочие московских заводов отбивали у них Кремль. В четвертом действии был апофеоз. Труппа молчала, бледная. Секретарь парткома позвонил. Булгакова забрали — здесь же, в театре, — но скоро выпустили.
Это был один из очень редких разговоров на политические темы с человеком другого поколения.
Как себя чувствовали эти поколения тогда, в 37–м, 38–м, 39–м? О чем думали, чего боялись? С нами об этом разговоров не велось. Впрочем, был еще один рассказ О. М. — о слухах, что Балтрушайтис выслан из Москвы за то, что пытался помочь Бабелю и Мейерхольду уйти в Литву.
На войне, в самом ее конце, я получил письмо от Лили Юрьевны о том, что Брик умер. К тому времени у меня уже выработалась привычка к смертям, ежедневным и массовым.
Однако очень жалко мне стало Осипа Максимовича — что- то отломилось от меня самого
Как я описывал имущество у Бабеля
В 1938 году, осенью, я описывал имущество у писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.
Это звучит ужасно. Тридцать без малого лет спустя я рассказывал эту историю старшей дочери Бабеля и она слушала меня, выкатив глаза от ужаса, а не от чего‑нибудь иного.
На самом же деле все происходило весело и безобидно.
Осенью 1938 года я был студентом второго курса Московского юридического института. На втором курсе у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам. На протяжении месяца пришлось поприсутствовать и в суде, и на следствии, и в нотариальной конторе, и у адвоката — все это в первый раз в жизни. В самом конце месяца мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:
— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заключил договоры со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?
— Как фамилия жулика? — спросил я.
Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:
— Бабель, Исаак Эммануилович.
Мы вдвоем пошли описывать жулика.
К тому времени, к сентябрю 1938 года, я перечел нетолстый томик Бабеля уже десятый или четырнадцатый раз. К тому времени я уже второй год жил в Москве и ни разу не был ни в единой московской квартире. 23 трамвайные остановки отделяли Алексеевский студенческий городок от улицы Герцена и Московского юридического института. Кроме общежитий, аудиторий, бани раз в неделю и театра раз в месяц, я не бывал ни в каких московских помещениях.
Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.
— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них споет.
У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку.
В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество.
Много лет спустя я снова побывал в этой квартире и запомнил ее — длинную, узкую, сумрачную.
В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель.
Мы ходили по комнатам. Сколько их было? Две или три — не помню. В комнатах было чисто и так пусто, как будто все имущество, кроме не подлежащего описи, вывезли накануне. Старик был недоволен, а я кипел от дурацкого восторга, от соприкосновенности к Бабелю Исааку Эммануиловичу, не выполняющему договора и укрывающему от описи имущество.
Вдруг старик ухмыльнулся и вздел очки на лоб.
— Картина! Подлежит описи. Художественную ценность имеет? Ты в этом понимаешь?
— Не имеет никакой художественной ценности, — радостно ответил я, покуда перед моими глазами замоталось что- то зеленое и белое, а может быть, и черное. Какие картины могли нравиться Бабелю? Какие художники? Наверное, он понимал в этом деле, как и во многих других делах. А я не понимал в живописи. Судебный исполнитель тоже не понимал. Картина осталась висеть на стене, а мы с пустыми руками возвратились в Молотовскую районную прокуратуру города Москвы.