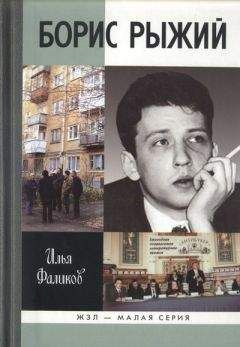Это было в 1938 году, в самом конце сентября. Тридцать седьмому году шел уже двадцать первый месяц, и еще по крайней мере семь — восемь месяцев осталось у Бабеля — ходить по московским улицам, заключать договора с киностудиями, укрывать от описи свое имущество.
Какая‑то невидимая черта, неизвестно кем проведенная, но прочная и надежная, как линия фронта после полугодовой обороны, отделила меня от тридцать седьмого года. Бабель оказался по ту сторону черты
На следующую войну я буду собираться умнее.
Но 13 июля 1941 года, когда я городским транспортом (употребление такси нам было мало известно; брали его только в складчину на четверых, когда опаздывали в институт в серьезные, послеуказные дни 1939, если не ошибаюсь, года — за любое опоздание газеты грозили судом) поехал на Курский вокзал, в моем чемодане были только вещи ненужные, непонадобившиеся. А именно:
Однотомник Блока в очень твердом домашнем переплете. Всю жизнь я собирался прочесть «Стихи о Прекрасной Даме» и думал, что на войне выберу для этого время и настроение. Не выбрал (как, впрочем, и после войны).
Однотомник Хлебникова в твердом издательском переплете. Хотел прочитать его «как следует». На войне не успел, а после войны — успел.
Эти два толстых и твердых, как железо, переплета почти обесценили мой вещмешок (куда вскоре перекочевали вещи) как подушку. Проще оказалось подкладыватъ под голову полено.
Две прекрасные капиталистические рубашки, привезенные мне за год до этого Петей Гореликом из Западной Украины. До войны я их не носил, жалел. А на войну взял с собой. Это было едва ли не самое нравящееся мне имущество.
Вещмешок достался через несколько дней противнику. Книги мои выбросили, а рубашки поддевал под китель какой- нибудь немец. И похваливал.
Так мне и надо было. За глупость.
Потомки разберутся, если у них будет время, желание, досуг и, как теперь говорят, бумага.
А пока нужно и самому про себя сказать.
«Ты про себя скажи!» — кричали на партийных собраниях в ЦК профсоюза коммунальников. Я там состоял на учете лет шесть после войны как направленный райкомом инвалид войны. Сначала как инвалид, потом просто как нигде не служащий, не состоящий.
Где я только не состоял!
И как долго не состоял нигде!
В 1950 году познакомился я с Наташей, и она, придя домой, рассказала своей интеллигентной матушке, что встретила интересного человека.
— А кто он такой?
— Никто.
— А где он работает?
— Нигде.
— А где живет?
— Нигде.
И так было десять лет — с демобилизации до 1956–го, когда получил первую в жизни комнату тридцати семи лет от роду и впервые пошел покупать мебель — шесть стульев, до 1957–го, когда приняли меня в Союз писателей.
Никто. Нигде. Нигде.
Может быть, хоть потомки учтут при оценке моих мотивов?
Мемуаристы не учитывают. Вчера Дезик читал мне свой мемуар со всем жаром отвергнутой любви, со всем хладом более правильно прожитой жизни.
Не учитывая.
Сколько у меня шансов было — это я сам знаю. Больше никто. Сколько козырей, сколько возможностей. Хотел распорядиться ими получше.
Как уж вышло.
Об интересных человеках.
— С кем ты сейчас дружишь? — спросил меня Зейда в 1948 году.
— Да есть интересные люди.
— Ты учти, интересными людьми многие инстанции интересуются.
Осенью 1952 года вызывают меня в райком. Третий секретарь — Прозорова. Лицо приятное, усталое. Сорокалетняя женщина, вроде директрисы средней московской школы.
— Как это вы столько лет не работаете?
Посмотрел. У нее на столе — радиопрограмма.
Говорю:
— Вот во вторник моя радиокомпозиция идет по первой программе. Фамилия там напечатана. А в субботу — радиоочерк.
Проверила. Отпустила.
Фамилию мою в радиопрограмме печатали редко — раза через три. А на этот раз так случилось. В одной программе — дважды.
Отпустила.
Тучи несколько раз сгущались прямо над головой. И гром гремел. И молния была. Но неточно. По соседству.
Интересовались мной разные интересные люди. Вызывали других интересных людей. Спрашивали.
Особенно интересовались моими рассказами о Югославии. Время было такое. Разрыв с Тито. Но о Югославии я рассказывал объективно. Не обобщал. Только факты.
Вообще я старался рассказывать объективно. Только факты. Слушали меня с удовольствием. Девушки говорили: ты хорошо истории рассказываешь! И в самом деле, это были истории по Геродоту. Без вранья, но с литературной отделкой.
Когда истории рассказываешь по многу раз, они меняются, становятся впечатляющей, отточенней. В худшую сторону меняются.
Я это заметил и рассказывать перестал. И так, в некоторых случаях, не помню, что видел сам, а что рассказалось.
Мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму.
Я от природы не слишком страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с удовольствием.
Прочитав книгу Надежды Яковлевны, долго высказывал ей претензии по линии манделыптамоцентризма и несправедливости к той среде, которая много лет эту семью питала в прямом смысле. Не без риска. Надежда Яковлевна слушала со злобной сдержанностью.
Еще ораторствуя, я понял, что кругом не прав. Ведь мемуары не история, а эпос, только без ритма. Разве эпос может быть справедливым?
Мне пришлось, довелось переводить сначала албанский эпос, а потом сербский. Одни и те же события, излагаемые с мусульманской точки зрения и с православной.
Я буду, конечно, все излагать со своей точки зрения. Но постараюсь, чтобы пылу было поменьше.
Еще один подход к мемуарам у Эренбурга. Он говорил, что хочет вспоминать только о хороших людях. Это уже сознательная деформация мира.
Н. А. Заболоцкий говорил не то о Пастернаке, не то о Шкловском, не то о них обоих:
— Люди это замечательные, но когда кончают рассуждать, я прошу, чтоб повторили по порядку.
По какому порядку?
Я предпочитаю порядок «Столбцов» порядку «Горийской симфонии».
Тот же H. A. как‑то сказал:
— Я долго относился к вам с подозрением, потому что вам слишком нравятся «Столбцы».
Да, слишком. И ему самому они всю жизнь слишком нравились. А к тем, кому они нравились мало, он относился не подозрительно, а плохо.
Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками: 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал.