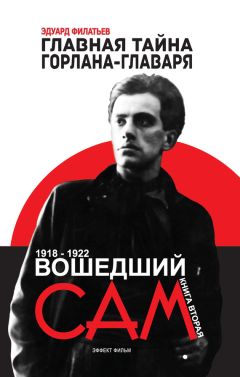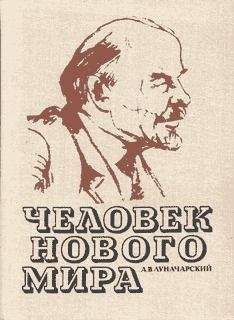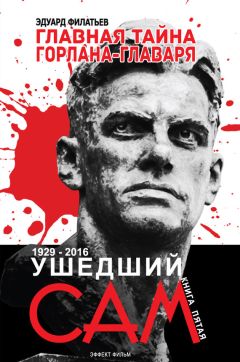Пришла пора поговорить о новых «связях» Лили Брик с ВЧК. Они появились примерно в то же время, когда Маяковский получал комнату в Лубянском проезде. Аркадий Ваксберг высказался об этом так:
«Именно в эти дни ранней осени 1919 года у Лили впервые – и, судя по всему, единственный раз – появилась мысль об эмиграции. К политике это не имело ни малейшего отношения. С советской властью она легко находила общий язык, ощущая её своей властью, открывшей простор для любых экспериментов в искусстве, никаких притеснений от новых хозяев страны не ощущала, находя неудобства лишь в быте, исключавшим тот образ жизни, к которому она привыкла. Пример сестры, оказавшейся в Европе и наслаждавшейся – пусть и убогим, послевоенным и, однако же, несомненным – комфортом, казался заманчивым».
Куда же собралась нигде не работавшая дама, проживавшая в маленькой комнатушке коммунальной квартиры дома, что в Полуэктовом переулке Москвы?
Ответ на этот вопрос дал Борис Леонидович Пастернак, который ещё в марте 1919 года завершил работу над поэмой «Сестра моя – жизнь». Первым её слушателем стал Владимир Маяковский, о котором автор поэмы написал:
«Я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо услышать».
А Лили Брик стала просто вздыхать по Пастернаку Василий Васильевич Катанян (в книге «Лиля Брик и Владимир Маяковский») по этому поводу написал:
«Она увлеклась Пастернаком – и поэтом, и личностью. Она любила слушать, как он музицировал и "блестяще читал блестящие стихи, часто непонятные и таинственные "».
В.В.Катанян рассказал и об отношении к Лили Юрьевне Бориса Пастернака:
«… он собственноручно переписал для Лили «Сестру мою – жизнь»… и подарил ей с надписью: «Этот экземпляр, который себя так позорно вёл, написан для Лили Брик, с лучшими чувствами к ней, devotedly <преданно> Б.Пастернаком».
На вопрос «Кто и как именно позорно себя вёл?» ЛЮ, усмехнувшись, ответила, что это была лирическая petite histone <неболыпая история > и прервала разговор».
Стало быть, Лили Брик было что скрывать.
Подаренная ей рукопись поэмы открывалась стихотворным экспромтом:
«Пусть ритм безделицы октябрьской
Послужит ритмом Полёта из головотяпской
В страну, где Уитман.
И в час, как здесь заблещут каски
Цветногвардейцев,
Желаю вам зарёй чикагской
Зардеться».
Из этих строк ясно, что дело происходило в октябре («безделица октябрьская»), и что Лили собиралась отправиться за океан («в страну, где Уитман»).
Бенгт Янгфельдт, тоже обративший внимание на загадочную странность этой поездки, недоумевал:
«Из посвящения Пастернака понятно, что она стремилась в страну Уитмена, а не в Западную Европу, где жили мать и сестра. Почему в Соединённые Штаты, где, насколько известно, у неё не было ни родственников, ни связей? И говорила она на немецком и на французском. На этот вопрос ответа нет».
Аркадий Ваксберг:
«Почему эта европейская женщина остановила свой выбор на Америке, мы не знаем, да существенного значения это, пожалуй, и не имеет».
Почему же не имеет? Имеет. И весьма существенное.
Ведь уже в самом факте этой предполагавшейся поездки содержится очень важная информация. Могла ли беспартийная, нигде не работавшая, не имевшая родственников за океаном женщина отправиться в страну, с которой у Советской России дипломатических отношений не было? Весьма сомнительно. Но если всё-таки она собиралась туда поехать, то (точно так же, как в случае с зарубежной поездкой Эльзы Каган) сразу же возникают вопросы: за чей счёт и с какой целью?
Ответ на них однозначен: такую поездку способно было организовать только одно ведомство страны Советов, которому срочно потребовалась женщина, способная завлекать мужчин, заставляя их плясать под свою дудку. Этим ведомством было ВЧК, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия.
Почему именно тогда Маяковскому понадобилось новое пристанище (то ли из-за планировавшейся поездки Лили Юрьевны за рубеж, то ли из-за её неожиданной влюблённости в Пастернака), не знал даже В.В.Катанян, написавшей очень неуверенно:
«В разгар этой увлечённости Маяковский, надо полагать, и стал искать для себя жильё».
Возникает ещё один вопрос: кто порекомендовал чекистам отправить в эту поездку Лили Юрьевну? Лев Гринкруг, финансовый директор РОСТА? Или Роман Якобсон, «связи» которого дали Маяковскому возможность стать владельцем комнатки в центре Москвы?
О Якобсоне Бенгт Янгфельдт сообщил следующее:
«Получив университетский диплом в 1918 году, Якобсон остался при университете для подготовки к профессорскому званию. Это, в частности, освобождало его от воинской повинности, которая в условиях гражданской войны грозила отправкой на фронт…
Вместо отправки на фронт Роману неожиданно предложили работу в отделе печати первой дипломатической миссии Советской Республики в Ревеле (Таллин), которая должна была открыться зимой 1920 года. На вопрос, почему предложение сделали именно ему, сотрудник Наркомата иностранных дел ответил, что желающих на это место не нашлось, поскольку есть риск, что белогвардейцы взорвут поезд после пересечения границы».
На этом рассмотрение вопроса о причине отправки Якобсона в Эстонию Янгфельдт прекратил. И совершенно напрасно – информация просто выпячивает из строк приведённого им текста. Тем более, что именно в конце 1919 года в ВЧК задумались над созданием особой закардонной агентуры для выявления контрреволюционеров, засылаемых в Советскую Россию. Не предстояло ли Роману Якобсону стать одним из первых, кто должен был войти в эту чекистскую гвардию?
В декабре 1919 года (по другим сведениям – в апреле 1920-го) Яков Блюмкин вступил в РКП(б).
В это же время деникинскому генералу Якову Александровичу Слащёву удалось захватить Екатеринослав, вытеснив оттуда Гуляйпольскую повстанческую армию. Нестору Махно пришлось вновь начать переговоры о военном союзе с Красной армией. Но И января 1920 года Лев Троцкий подписал приказ, объявлявший Нестора Махно бандитом, заслуживающим казни, и ставивший его анархистское воинство вне закона.
Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф
В тот же январский день (11 числа) в московском кафе «Домино» (новое его название – кафе «СОПО», то есть «СОюз ПОэтов» – не приживалось) произошёл скандал. Находившийся среди посетителей сотрудник МЧК Шейкман позвонил в своё ведомство, и в кафе прибыла чекистский комиссар Александра Рекстынь. Она написала в протоколе: