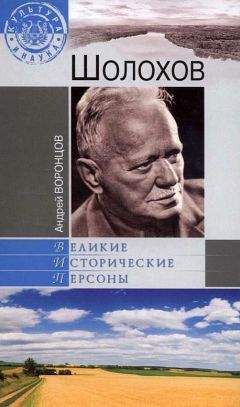— Мне показалось, что я, приехав с Дона, знаю то, что мало знают другие. У нас гражданская война имела особый характер. Сплошь и рядом в одной семье были и красные, и белые. Другим писателям не хватает материала, они все придумывают про революцию, а у меня впечатлений было более чем достаточно, не знал, куда девать.
— А в жизни всегда красные хорошие, а белые плохие? — глядя прямо в глаза Михаилу, спросил Серафимович.
— Конечно нет, — засмеялся Михаил.
— Почему же у вас белые — всегда плохие?
— А вы их предлагаете делать хорошими? — как можно простодушней осведомился Михаил.
Серафимович улыбнулся.
— Нет, отношения к героям я вам диктовать не могу. Ну а если бы было позволено писать о том, что белые хорошие, — писали бы?
— Если бы я писал роман, то не думал бы о том, что позволено, а что не позволено. А в небольшом рассказе, если честно, у меня пока не получается, чтобы и среди белых были плохие и хорошие, и среди красных.
— Идея размывается? — понимающе кивнул Серафимович.
— Точно.
— Тогда и впрямь надо писать роман, в котором не было бы схематического деления на плохих белых и хороших красных, а было бы столкновение идей, из которого рождалась бы всепобеждающая правда Революции. Но роман просто так, с кондачка, не напишешь. Надо учиться. По рассказам видно, что вы торопитесь, у вас слишком короткое дыхание. Не спешите. Возьмите какую-нибудь тему и работайте над ней серьезно, не думая о том, как бы скорее закончить. Когда вы начнете жить большой вещью, идеи появятся сами собой.
— Да идей у меня хватает! — вырвалось у Михаила.
— Вот как? — поднял брови Серафимович. — Похвально. Тогда тем более нужно искать для идей соответствующую форму. Алексей Максимович всегда советует молодым авторам писать семейный роман. Вот вы говорили, что на Дону много семей, в которых были и красные, и белые. Возьмите историю такой семьи — не в скоротечных кровавых конфликтах, как в «Родинке», «Продкомиссаре» или «Коловерти», а во всем трагизме отношений, когда становятся чужими люди, любившие друг друга. Диалектика чему нас учит? Единству и борьбе противоположностей. Так дайте на своих страницах эту борьбу, а посредством борьбы — единство, осуществляемое в победе Революции.
Если не принимать в расчет «диалектики», проницательный Серафимович сказал то, над чем в последнее время много думал сам Михаил.
* * *
Конечно же, «донские трагедии» лишь в малой степени позволяли Михаилу высказать все то, что он пережил и передумал на Дону, а потом здесь, в беззаботной Москве, когда его догадка о том, что на Дону история движется быстрее, оказалась верной. Как, в каком виде использовать то, чему он стал свидетелем, как показать резкий трагический поворот во многовековой истории самостоятельной ветви русского народа — донского казачества? С помощью семейного романа, как предлагал Серафимович? Предложение дельное, но… Михаил понимал уже, что с 19-го года, когда он начал всерьез раздумывать о происходящем, горизонт его впечатлений и мыслей расширился настолько, что семейного романа для их выражения будет уже недостаточно. То, что он накопил в себе, напоминало новое ощущение пространства, которое он испытал осенью 22-го по пути из Вешенской в Миллерово. Он увидел степь в другом измерении — не бесконечную голую пустыню, игралище бездумных ветров, а перекресток исторических путей десятков и сотен народов, живущих и уже ушедших в небытие. Трагический семейный роман, думал он, был бы похож на подробное описание отношений людей, едущих по степи, в то время как оставалось бы неясным, куда, собственно, они едут.
Воспринимая историю без особых премудростей, как прямое продолжение человеческой жизни, Михаил с сомнением отнесся к словам Серафимовича, что главной силой в романе должна быть «всепобеждающая сила Революции». Это годилось для «Железного потока», а для будущего шолоховского романа, который, как Тихий Дон где-то в глубине России, зарождался внутри него, — нет. Михаил знал цену Революции, хотя бы в пределах личного опыта, но что-то говорило ему: этот поворот в истории России, подобно прихотливому течению Дона, — далеко не последний. «Железные потоки» в ходе гражданской избороздили Донскую область вдоль и поперек, и если бы Михаил взялся описать один из них в рамках семейного романа, то получилась бы растянутая до размеров романа «Коловерть». Он же считал, что лучше хороший короткий рассказ, чем средненький роман на ту же тему. Ведь не для того же Серафимович призывал Михаила писать роман, чтобы он всего лишь преодолел схематическое изображение красных и белых!
То, о чем бы ему хотелось написать, по ощущению напоминало былину — грандиозную, величественную, трагическую, с кровавыми закатами над полями сражений, с луной, меланхолически плывущей сквозь дым пожарищ, с табунами оседланных, взмыленных лошадей, несущихся куда-то по степи без всадников, потому что всадники убиты, с четырехкрылыми аэропланами, низко, как птицы Апокалипсиса, летящими над землей, поливая все живое внизу огнем и железом. «Слово о погибели Русской земли»… Когда-то, глядя на разоренные донские хутора и станицы, он все повторял про себя это название. И по сей день оно осталось для него очевидной нотой, с которой стоило бы начинать большую вещь. «И в те дни обрушилась беда на христиан…».
Будучи уже здесь, в Москве, он взял в библиотеке дореволюционную хрестоматию древнерусской литературы и с разочарованием убедился, что тот отрывок из «Слова о погибели», который они учили в гимназии, и есть единственный сохранившийся. «Знать, рано было хоронить Русскую землю!» — усмехнулся Михаил. Он взялся читать другие памятники, напечатанные в хрестоматии, чтобы снова зазвучала для него нота, оборванная в «Слове о погибели», но не нашел ее даже в «Повести о разорении Рязани Батыем». Исторически «Повесть» точно продолжала «Слово», но написана была в иной тональности, ближе к летописи. Размышляя о превратностях истории, о возможном тайном смысле того, что до нас дошла картина не погибели, а, наоборот, процветания Русской земли, Михаил пришел к неожиданному выводу. Из книг по истории литературы, которые он читал в своей подвальной каморке для самообразования, он знал, что всякая более или менее значительная литература имела в своем основании так называемый эпос: большое, охватывающее продолжительный период времени произведение с легендарным сюжетом, героями которого были народные вожди или сам народ. У древних греков это были «Илиада» и «Одиссея», у римлян — «Энеида», у французов — «Песнь о Роланде», у испанцев — «Сид», у англичан — «Беовульф», у немцев — «Песнь о Нибелунгах» и т. д. Но у русского народа, похоже, не было такого большого эпоса! Только небольшие «Слово о полку Игореве», «Задонщина», оборванное «Слово о погибели»… Сначала этой мысли Михаил не придал особого значения: ну нет — так нет, значит, идем, как и во многом другом, своей дорогой, да и русская литература без всякого большого эпоса уже является великой. И вообще, разве литература — это тот род деятельности, где о качестве судят по количеству? Пусть «Слово о полку Игореве» гораздо меньше «Илиады», все равно оно премногих томов тяжелей.