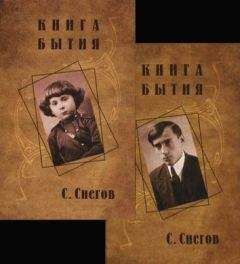Конечно, для тех, кто получал пайки, эта помощь не была определяющей — но эти люди и не умирали от голода. Даже пайковый хлеб стал лучше — в тесто добавляли американскую муку. Крестьяне, начисто подъевшие свое зерно, получали от государства семенные ссуды — тоже в большинстве своем за счет АРА. Я знаю: многие эмигранты, не сумевшие простить России своего отъезда, злорадствовали по поводу голода — что ж, подлецов хватало во все эпохи, ни одна страна не может пожаловаться на недобор мерзавцев. И спасибо благородным душам (не одному великому Нансену), которые сделали что могли, чтобы смягчить ужасающий голод в Восточной Европе!
Мы переехали с Мясоедовской на Южную (дом № 39). Всего один квартал и Косарка (сейчас — Срединная площадь) отделяли старое наше жилье от нового. Перед переездом случились два события — одно крохотное, семейное, другое огромное, всенародное (если не сказать — всемирное).
Локальный катаклизм заключался в том, что Союз печатников командировал отчима в Харьков (Осипу Соломоновичу — вместе с другими уполномоченными — поручили раздобыть там всякие промтовары). Сотрудников типографии причисляли к рабочим — по карточкам им полагалась и одежда, и обувь. Но получать было нечего. Ближе к северу, в городах, не затронутых войной и послевоенной разрухой, промышленные предприятия работали. Правда, за морем телушка — полушка, да рубль — перевоз. К тому же и перевозить было не на чем: транспорт не справлялся с доставкой продовольствия для голодающих — где уж было думать об обуви!
В Харьков отчим ехал месяц, из Харькова — тоже. Печатники ликовали: надо же, как быстро! А главное — целый вагон мануфактуры (на каждой станции ко всем его замкам и пломбам выставляли самодеятельную охрану). Ничего не пропало, не усохло, не утряслось… Ушла разве что малость: на презенты станционным начальникам (за то, что не очень мурыжили в тупиках), дорожной ЧК, сцепщикам, сторожам, машинистам — ну и, конечно, на гонорар уполномоченным, все это добро привезшим.
— Как много вещей, Осип! — радовалась мама, любуясь отрезами на пальто и костюмы и цыганским шелковым платком (он потом сорок лет гнил в комоде и рассыпался лишь после войны, ибо она надевала его, по моим наблюдениям, только в очень большие праздники — и не каждый год).
Осип Соломонович вернулся из Харькова не только с подарками — но и с разочарованием.
Как и все убежденные советские евреи (впрочем, несоветские — тоже), отчим безмерно гордился, что второй по значимости фигурой революции был Троцкий. Начало двадцатых и конец гражданской — пик популярности пламенного революционного Иудушки (именно так, как известно, поименовала однажды Льва Давидовича фигура первая — Ленин). Вскоре по председателю Реввоенсовета прошелся и Сталин, презрительно обмолвившись о «вожде с кучей газетных приветствий» — что, однако, не помешало будущему отцу народов по-черному завидовать и даже подражать Троцкому. Впрочем, это было позже. А тогда, в начале двадцатых, беспризорники, лихо стуча деревянными кастаньетами, во всю мочь орали на улицах:
На столе стоит тарелка,
А в тарелке каша.
Ленин Троцкому сказал,
Что Россия наша.
В дни, когда отчим был в Харькове, там стоял поезд Троцкого. Осип Соломонович не мог не поклониться своему кумиру. Он выцыганил свидание и был допущен в державный вагон. Адъютант доложил реввождю, что двое заслуженных печатников из Одессы просят их принять. И в тамбур донеслась отрывистая реплика Троцкого:
— Партийцы или беспартийная сволочь?
Поклонение не удалось. Ошарашенный отчим еле пробормотал приветствие, ответил на пару пустяшных вопросов — и сам не задал ни одного. «За что он назвал меня сволочью, Зина? Ведь он не знал меня!» — горестно вопрошал дома Осип Соломонович.
Он был довольно умный человек, мой отчим. Но, как почти все люди, чуть ли не обожествлял любого правителя. Считать своего господина выше себя — это общечеловеческая иллюзия. Да, конечно, для лакеев нет великого человека — возможно, потому, что они слишком приближены к телу. Другое дело — смотреть издалека… Великое разочарование — узнать, что тобой командует такой же человек, как ты, а может, и похуже. Тому, кто вознесся выше всех, не прощают среднести, а тем более — ничтожества.
Троцкий ничтожным не был. Он несомненно принадлежал к когорте выдающихся — и те, которые его свалили, морально были куда пониже, а интеллектуально — куда пожиже. Но отчим так и не простил председателю Реввоенсовета того, что он не наделен святостью, с точки зрения обывателя полагающейся ему по должности. Впоследствии это разочарование помогло Осипу Соломоновичу пережить партийные дискуссии — он презрительно отмахивался от оголтелых обвинений и взаимного обливания помоями.
Теперь о катаклизме глобальном — я имею в виду изъятие церковных ценностей. Его проводили под лозунгом помощи голодающим. Сомневаюсь, чтобы православное золото спасло хоть кого-нибудь из умирающих православных, иноверцев и атеистов — для этого оно просто запоздало.
Ценности изымали в тот момент, когда люди уже гибли, когда АРА уже развернула работу и в Поволжье, и на Южной Украине. Кого можно было спасти, того спасали и без церковных богатств. Но при ликвидации последствий голода, преодолении послевоенной разрухи сокровища, веками копившиеся в храмах, помогли — это правда. И помогли мощно. На них закупали зерно и мануфактуру, паровозы и вагоны, железо и станки…
Можно только пожалеть, что ни у одного из русских иерархов не хватило высоты духа, чтобы, не дожидаясь изъятия, добровольно отказаться от своих богатств — во имя спасения народа. Как бы это отвечало сути христианства! Но в любое великое учреждение (особенно если оно стоит достаточно долго) непременно пробираются люди мелкие. Именно они ожесточенней всех карабкаются вверх — и озирают подвластный мир, искренне полагая, что служебная высота отражает высоту характера. Отчаянная схватка власти и церкви уже вспыхнула — и в самом ее начале церковь могла одержать окончательную моральную победу. Но владыки не додумались до самопожертвования (или не осмелились на него) — и тем запрограммировали свое поражение на многие десятки лет. Мелкими и нерешительными людьми, видимо, были церковные иерархи — им противостояли личности куда более жесткие и куда более способные на поступки (в том числе — и на зверства, которых требовали их цели).
Ни при каких изъятиях я, естественно, не присутствовал, но порожденное ими смятение — видел, вызванные им разговоры — слышал. А после ходил с мамой в потускневшие церкви — и по-детски огорчался, что нет больше прежних пышных театров богослужения. Большинство одесситов одобряли очистку храмов — она казалась деянием во благо народа (да, наверное, и была им). Зачем копили сокровища — если не для того, чтобы в трудную минуту помочь людям? — таково было общее мнение. Впрочем, встречались и несогласные, и возмущающиеся — но тем хуже было для них.