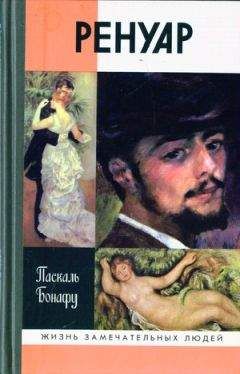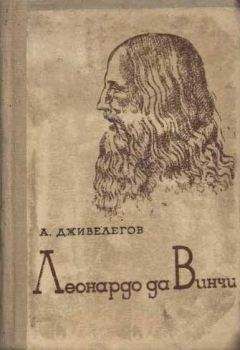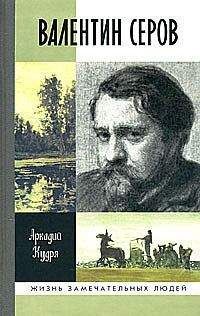«Усталая нежность» и «безмолвная боль затаенной печали» – ключи к пониманию левитановского пейзажа. Все это художник находил в средней полосе России, опять же на фоне прошлого и настоящего русского народа.
«Разочаровался я чрезвычайно, – пишет Левитан Чехову весной 1887 года. – Ждал я Волги, как источника сильных художественных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце и явилась мысль, не уехать ли обратно?..»
Аполлинарию Васнецову из Ниццы 9 апреля 1894 года: «…Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает все… Нет лучшей страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий пейзажист».
И это из Ниццы, о которой Тютчев писал:
«О, этот юг, о, эта Ницца! О как их блеск меня тревожит…»
Из Монт-Бортона (окрестности Ниццы) 16 апреля 1894 года Николаю Медынцеву: «Скажите мне, дорогой мой, зачем я здесь? Что Мне здесь нужно, в чужой стране, в то самое время, как меня тянет в Россию и так мучительно хочется видеть тающий снег, березку?.. Черт знает, что я за человек – все неизведанное влечет, изведав же, остается несказанная грусть и желание возврата прошедшего…»
На Левитана и Италия «не легла». И Венеция не взволновала, хотя он и написал «Канал в Венеции» (акварель, 1890). Антон Павлович писал удивленно своей сестре из Рима 1 апреля 1891 года: «Мне странно, что Левитану не понравилась Италия. Это очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».
Но Левитан думал иначе. Его душе были более созвучны российские худые березки да тающий снег по весне. Таким уж был этот странный художник, еврей по национальности, но удивительно русский человек по духу. А в жизни часто бывает все наоборот: кто-то русский по происхождению, русак из русаков, а в душе – иностранец, во сне и наяву видит только Париж…
Тоска как основная доминанта жизни
Однако вернемся к Левитану. К Исааку Ильичу. К его истокам, к юности. Маленький отрывок из книги Андрея Туркова о Левитане:
«Два любимейших саврасовских ученика – это Костя Коровин и Левитан. Они очень разные.
Разглядывая работы впервые появившегося у него в мастерской Коровина, Саврасов невольно сравнивал:
– Вот Исаак Левитан, он любит тайную печаль, настроение…
– А он, – подхватывал сам Левитан, кивая на новичка, чьи этюды ему очень нравились, – ищет веселья.
Они подружились, но по-прежнему продолжали спорить.
– Правду нужно! – утверждал Левитан.
– Красоту! – отвечал Коровин.
И характеры у них были разительно несхожие. Весельчак Костя бурно радовался жизни и людям. Левитан людей сторонился, а природа трогала его до слез, потрясала, мучила томительным противоречием между красотой окружающего мира и краткостью человеческой жизни.
– Опять ревешь! – упрекал один.
– Я не реву – я рыдаю! – сердито возражал другой и порой в испуге восклицал: – Послушай, я не могу: тишина, таинственность, – этот лес, трава… Но все это обман! За всем этим – смерть, могила!..
Как-то на экзамене по анатомии Левитан озадачил профессора, отказавшись взять в руки череп:
– Это ужасно! Это смерть! Я не могу видеть мертвых…» (А. Турков. «Исаак Ильич Левитан»).
Смерть пугала Левитана с юности, будто он предчувствовал свою будущую раннюю кончину. Страх смерти болезненно развивался в нем. Поэтому главными чертами личности Левитана на все последующие годы стали болезненная тоска, приступы отвращения к жизни, внутренний разлад с самим собой.
Для подтверждения этого вывода обратимся к его письмам.
Весна 1887 года. Левитану 27 лет. Он пишет Чехову (адресат, правда, под знаком вопроса): «Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собою? Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие…»
Из Италии 31 марта 1890 года Василию Поленову: «Здоровье плохо; состояние духа еще хуже. Несчастный я человек. Я окончательно пришел к убеждению, что впечатления извне ничего не дадут мне, – начало моих страданий во мне самом, и что поездка куда бы то ни было есть бежанье от самого себя! Страшное сознание!..»
Да, Левитан пытался бороться со своим настроением, со своей тоской, апатией. 25 марта 1895 года он пишет Александру Средину: «На Ваш вопрос, когда я думаю вернуться из деревни, чтобы оказать Вам содействие в устройстве выставки, я Вам положительно ответить не могу. И потом, скажу по правде, меня, больного, разбитого и физически и морально человека, просто начинает пугать мысль о предстоящих хлопотах… Я дал Вам согласие, не совсем подумав. Ради Бога, простите меня, но надо быть с моей психикой, чтобы понять, как тяжело мне бывает».
И далее: «Конечно, все мы более или менее больные люди, но тем не менее работаем, и Вы правы, но Вы забываете, что искусство такая ненасытная гидра и такая ревнивая, что берет всего человека, не оставляя ему ничего из его физических и нравственных сбережений…»
Из имения Горки 13 июля 1895 года Алексею Ланговому: «Вам я могу, как своему доктору и доброму знакомому, сказать всю правду, зная, что дальше это не пойдет. Меланхолия дошла у меня до того, что я стрелялся… остался жив, но вот уже месяц как доктор ездит ко мне промывать рану и ставить тампоны. Вот до чего дошел Ваш покорный слуга! Хожу с забинтованной головой, изредка мучительная боль головы доводит до отчаяния. Все-таки с каждым днем мне делается лучше. Думаю попытаться работать. Лето почти я ничего не сделал и, вероятно, не сделаю. Вообще, невеселые мысли бродят в моей голове…»
Попытка самоубийства связана не только с меланхолией, а явилась результатом любовного тупика, но об этом расскажем чуть позже.
27 июля 1895 года Левитан пишет Чехову: «Вновь я захандрил и захандрил без меры и грани, захандрил до одури, до ужаса. Если б ты знал, как скверно у меня теперь на душе. Тоска и уныние пронизали меня. Что делать? С каждым днем у меня все меньше и меньше воли сопротивляться мрачному настроению… Несмотря на свое состояние, я все время наблюдаю себя и ясно вижу, что я разваливаюсь вконец. И надоел же я себе, и как надоел!..»
Коровин вспоминает, как Левитан обвязывал себе голову холодным мокрым полотенцем и вопрошал: «Я – крокодил, что я делаю? Я гасну».
Левитан мечется и просит помощи у друзей. 30 октября 1895 года он обращается к Поленову:
«Могу ли я приехать к Вам, добрейший Василий Дмитриевич, дня на два-три? Во-первых, хочется Вас повидать; во-вторых, у меня такой приступ меланхолии, такое страшное отчаяние, до которого я еще никогда не доходил и которое, я предчувствую, я не перенесу, если останусь в городе, где я еще более чувствую себя одиноким, чем в лесу. Не бойтесь, Вы не увидите моей печальной фигуры – я буду бродить.