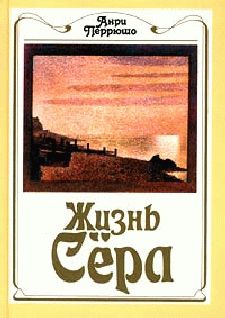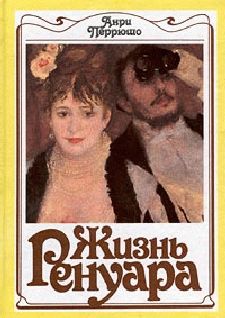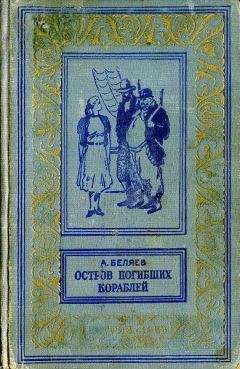Что касается творческого наследия Сёра, то с ним будут происходить печальные вещи.
В апреле родители художника попросили Максимилиана Люса, Синьяка и Фенеона составить вместе с Эмилем Сёра опись мастерской. 3 мая эта опись, в которой значились 42 картины, 163 крокетона, 527 рисунков и набросков, была закончена. В семье возникли сомнения: что делать дальше? Теперь стало известно, что художник жил не один, что у него была подруга и ребенок от нее. Родителей не смущало то обстоятельство, что брак не был официально зарегистрирован; они согласились считать Мадлен вдовой их сына и сделать ее наследницей половины работ художника. Тронутый этим Синьяк сразу же после смерти художника написал письмо Тео ван Риссельбергу - его теща только что купила одну из гравелинских марин Жоржа Сёра, - обращаясь к нему с просьбой передать деньги не семье художника, а Мадлен, которая, по его словам, вскоре останется без средств к существованию.
В какой-то момент возникла идея продажи с торгов. Но от нее отказались. Что она могла дать? Произведения Сёра имели невысокую коммерческую цену. Поэтому было решено разделить наследство по взаимной договоренности между семьей и Мадлен.
Все согласились также с тем, что следует подарить на память друзьям художника некоторые его работы: раскрашенное панно или рисунок, либо и то, и другое для самых близких. Родные художника получат, в частности, каждый по два панно и по рисунку.
Такое разбрасывание работ может удивить. Отчасти оно было ответом на озабоченность Фенеона, который не слишком уважительно относился к несчастной Мадлен; в письме Гюставу Кану - последний недавно поселился в Бельгии - он без обиняков выразил свое отношение к молодой женщине, уточнив, что было бы "опасно оставлять ей все наследие Сёра", ибо "боится ее новых сердечных увлечений".
Мадлен намерена обосноваться в Бельгии и зарабатывать себе на жизнь в качестве модистки. Во второй половине мая она отправилась в Брюссель, прихватив с собой пять панно и девять рисунков, с поручением распределить их между бельгийскими друзьями согласно данному ей списку.
Мадлен останавливается у Гюстава Кана. И тут начинается невероятная путаница. Что же произошло на самом деле? Может быть, Кану показались подозрительными условия раздела имущества? Или же им двигал какой-то личный интерес? И не вспыхнула ли ссора, как это часто бывает, вследствие недоразумения, из-за необдуманных слов, беспричинных или необоснованных предположений, которые в пылу страстей превратились в бесспорные истины? Увы, судить об этом мы можем лишь на основании имеющихся в нашем распоряжении писем, по своему тону весьма взвинченных, авторы которых приписывают друг другу самые недостойные намерения. "Нас обвиняют, Фенеона, Люса и меня, в том, что мы действовали как мошенники", - скажет Синьяк; для него цель Кана очевидна: поэт хотел бы "иметь все картины Сёра из тщеславия и в целях рекламы".
Как бы то ни было, находясь в Бельгии, Мадлен - а ей мадам Кан, по словам Синьяка, "имела низость" показать касающееся ее письмо Фенеона обрушила свой гнев на парижских друзей, не скупясь на обвинения. Жорж Леммен также занял сторону Мадлен. Страсти накалились. В конце концов Кан и Леммен поехали в Париж, чтобы провести "расследование" на месте.
Взбешенному Синьяку, обратившемуся за помощью и разъяснениями к Тео ван Риссельбергу, последний ответил, что их, Синьяка, Фенеона и Люса, упрекают:
"1. В том, что они защищают интересы семьи Сёра в ущерб его вдове, которая таким образом оказалась обездоленной. 2. Что они выкроили (для себя) солидную долю наследства; рылись в переписке и утаили при этом кое-какие бумаги; проявили великодушие и любезность по отношению к журналистам, взвалив всю ответственность на Сёра; воспользовались болезнью вдовы и т. д., и т. д., и т. д., и еще куча мелких фактиков, весьма смахивающих на сплетни, но, очевидно, выдуманных с целью (им) навредить"[149].
К чести Тео ван Риссельберга, для которого эта ссора была крайне неприятна, надо сказать, что он не терял присутствия духа. Отправившись к Мадлен, чтобы вручить ей четыреста франков за "Гравелин", он выслушал ее жалобы, а затем попросил Кана и Леммена о встрече в кафе, в "нейтральном месте", где заявил им в ходе беседы, что ничто в действиях или писаниях Синьяка, Люса и Фенеона "не обнаруживает ни малейшей непорядочности", ни малейшей двусмысленности. Но что он мог еще сделать? "Я бы многое дал, чтобы это дело было окончено и предано забвению".
После достаточно бурной встречи Люса и Синьяка с Мадлен (по ее возвращении из Брюсселя) Синьяк пришел к выводу:
"Все происходящее идет от этой змеи мадам Кан. Играя роль меценатки, из любви к злу и к интригам, она сделала все возможное, чтобы восстановить эту безмозглую и безвольную женщину против нас... Люс и Фенеон были мошенниками, а у меня было только одно желание: похоронить своего соперника Сёра... - вот о чем я узнал".
Наконец мало-помалу буря улеглась. 28 июня Синьяк, который добрался до Конкарно и сел на свою яхту "Олимпия", сообщил Тео ван Риссельбергу, что в своем "заказном письме мадам Кан отказывает в дружбе вдове Сёра" и что сам он получил от мадам Кан письмо на двенадцати страницах, где она в подробностях излагает "клеветнические слухи", которые, по ее словам, распространяла Мадлен. Синьяк негодовал:
"На этих двенадцати страницах нет ни одного слова правды, - писал он. Представьте себе, до чего можно дойти: Люса обвинили в том, что он продолжает работать над эскизом "Цирка" кисти Сёра? Какая грязь! Я имею в виду Леммена, который поступил как доносчик и неверный друг... Больше всего жалко - хотя она не ведала, что творит, но вела себя ужасно - бедную дуреху вдову Сёра, которая, сплетничая и рассказывая небылицы, словно безумная консьержка, восстановила всех против себя".
Мадлен Кноблох вскоре исчезла со сцены. Событие, случившееся в конце лета, в последний раз привлекло к ней внимание. В сентябре утонула ее мать. 5 сентября, в девять утра, труп женщины извлекли из воды в Аржантейе, в местечке, носящем название Пор-д'Ан-ба. Мадлен опознала ее в морге.
Нетрудно предположить, что смерть Сёра тяжело отзовется на будущем неоимпрессионизма. Едва узнав о смерти художника, Люсьен Писсарро написал из Лондона отцу: "Пуантилизм умер вместе с ним". Писсарро согласился с сыном: "Думаю, что ты прав, с пуантилистской техникой покончено, но, - добавил он, - я полагаю, что обнаружатся другие последствия, которые будут иметь очень большое значение для искусства. Сёра, несомненно, внес в живопись что-то новое".
Писсарро, которого увлечение дивизионизмом надолго выбило из колеи, еще не совсем обрел былую самоуверенность. В ноябре он не без грусти пишет Октаву Мирбо: "Когда я смотрю на свою старую работу, которую долго не видел, я воспринимаю ее как чужое произведение, нахожу в ней достоинства и сокрушаюсь, что не смог продолжать в том же духе". Его самочувствие также оставляло желать лучшего. Он страдал заболеванием глаз. Однако в начале 1892 года ему довелось испытать большое удовлетворение. Выставка, посвященная его творчеству, организованная Дюран-Рюэлем, впервые во всем блеске раскрыла талант шестидесятилетнего художника.