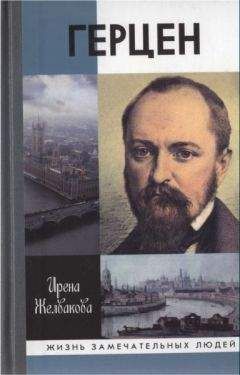Это верно только отчасти. Дело же в том, что после 1861 года «Колокол» утерял свой raison d'être. Он был так тесно связан с освобождением крестьян, что с достижением этой цели его редактору и вдохновителю как публицисту стало нечего делать.
В России после 19 февраля начались реакция, революционная пропаганда и продолжались еще несколько лет умеренно либеральные реформы.
Герцен ни к одному из этих течений не мог пристать так полно, как к «крестьянскому».
Он не был революционером, не был политиком. Он был гуманистом, философом, художником. Крестьянской реформе он отдался весь; она была исполнением его детской клятвы, его «долгом перед собой». Требуя ее, он опирался на все мыслящее русское общество.
Но все это мыслящее русское общество было, строго говоря, недорослем с большой дозой хамства, робости и себялюбия в душе. Оно боялось идти дальше и вполне удовлетворялось кое-каким земством, кое-каким судом, кое-какой гласностью. Даже умереннейшая пропаганда земского собора не нравилась таким «передовым» людям, как Тургенев, не говоря уже о Кавелине и других.
Идти дальше хотел лишь городской интеллигентный пролетариат. Но у него были свои вожди, его требования были слишком революционны для Герцена. «Молодая Россия», Чернышевский, Нечаев и другие считали Герцена отсталым, слишком мягким, слишком другом правительства.
Герцен не был отсталым. Но он не был и революционером. Поэтому он в конце концов остался один.
Еще раз: почему он не мог сойтись с эмиграцией – ни молодой, ни старой? Да просто по той причине, что его интересы и интересы всевозможных эмигрантов были в сущности совершенно различны. Он постоянно смотрел в будущее и гораздо больше видел в нем, читал в нем, чем верил в него. Он предсказал неуспех революции 1848 года, франко-германскую войну, торжество политики Бисмарка. Он был настроен на мрачный лад, и что же было делать ему среди фанатиков, ожидавших торжества своих идей, проектов, предложений чуть ли не завтра? Ему не было места между ними еще и потому, что в нем крепко сидела черта, общая почти для всех деятелей сороковых годов за исключением одного Белинского, – черта умственного аристократизма, своего рода даже пресыщения. Старое барство отзывалось в этом, и всегда с невыгодой для тех, кто был его преемником. Возьмите Тургенева и Герцена. Оба они, несмотря на весь демократизм своих убеждений, никак не могли сойтись с теми людьми, которые были плоть от плоти и кровь от крови демократии. Их коробили манеры, язык, замашки «новых людей», выступивших в России на сцену в шестидесятые годы. Они искали изящества, особенной утонченности чувств и идей и, разумеется, не находили их у деятелей, явившихся на смену их поколению. Но больше всего их мутило – и это настоящее слово – от догматизма мысли, от всего, что провозглашалось с безусловной самоуверенностью и с ненавистью к какому бы то ни было ограничению, возражению, колебанию.
В конце 1861 года в Лондон приехал друг Герцена, Бакунин, только что бежавший из Сибири через Америку, и стал работать в «Колоколе». Это тотчас же отразилось на тоне и выборе материала: газета стала красной, пожалуй, даже анархической.
«Личность Бакунина, – говорит Пассек, – была странна и замечательна: умный, начитанный, обладающий даром слова, проникнутый немецкой философией, он иногда был малодушен, как ребенок, которому хочется какого-нибудь дела: если печатать – то прокламации; если действовать, – то все везде поставить вверх дном, ничего не щадить, никогда не задаваться мыслью, что из этого может выйти, – идти напролом».
Герцен любил Бакунина, любил его за его добродушие, беспечность, которые заслужили ему прозвание «большой Лизы», любил в нем, наконец, старобарскую широту натуры. Но он ясно видел, что делать с ним какое-нибудь дело – трудно, едва ли даже возможно. Бакунин, например, в 1848 году возбуждал рабочих против их же правительства, объехал юг Европы, проповедуя повсюду анархизм, попал в австрийскую крепость, был выдан России, сослан в Сибирь и вернулся в Лондон готовый на все, с проповедью: «В топоры!» Художник Ге рассказывает в своих воспоминаниях, что однажды на вопрос, верит ли он в то, что проповедует, Бакунин отвечал: «Не знаю, но лишь бы все это завертелось, закрутилось и потом – головой вниз…»
«Бакунин, – продолжает Пассек, – часто вредно влиял на Герцена, обыкновенно через Огарева. Он настаивал на своей программе, а эта программа скоро запугала всех и прямо противоречила тому, что раньше говорилось в „Колоколе“.
Польская струнка живее забилась в вольной русской типографии. Сначала Бакунин помещал в «Колоколе» свои статьи, но Герцен находил их крайними, боролся сколько мог и предложил Бакунину говорить с публикой через отдельные брошюры. Но с настойчивостью Бакунина справиться было нелегко и пришлось уступать все больше и больше. Приезжавшие теперь в Лондон русские, заметив «польский» дух, говорили с упреками о заступничестве за повстанцев. Герцен отвечал резко, что гуманность – его девиз, что он всегда будет на стороне слабого, что он не может ценою неправды купить сочувствия соотечественников. Это, разумеется, только подливало масла в огонь.
Как упорно старался удержать Герцен свою газету в прежнем направлении, понимая, что вмешательство в польские события только погубит ее, видно хотя бы из следующего краткого рассказа Тучковой в ее «Воспоминаниях».
«Еще до освобождения крестьян приезжали в Лондон три члена ржонда. Они приезжали затем, чтобы заручиться помощью Герцена. Увидав их, Бакунин начал было говорить о тысячах, которых Герцен и он могут направить, куда хотят. Но, слушая Бакунина, они вопросительно смотрели на Герцена, и тот сказал откровенно, что не располагает никакой материальной силой в России, но что он имеет влияние на некоторое меньшинство своим словом и искренностью. Сначала Герцен убеждал этих господ оставить все замыслы восстания, говоря, что не будет пользы: Россия-де сильна, Польше с ней не тягаться. Россия идет путем постепенного прогресса, пользуйтесь тем, что она выработает. Ваше восстание ни к чему не приведет, только замедлит или даже повернет вспять ход развития России, а стало быть, и вашего. Передайте ржонду мои слова. В чем же может состоять сближение между нами? – продолжал Герцен. Жалея Польшу, мы не можем сочувствовать ее аристократическому направлению; освободите крестьян с землею, и у нас будет почва для сближения. Но посланные ржонда молчали или уклончиво говорили, что освобождение крестьян еще не подготовлено в Польше. Тогда Герцен возразил, что в таком случае не только русские не будут им сочувствовать, но что и польские крестьяне поймут, что им не за что подвергаться опасности, и примкнут в конце концов к русскому правительству, что позже и произошло в действительности. Так посланники и уехали обратно, не получив от Герцена никаких обещаний».