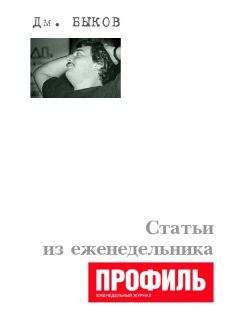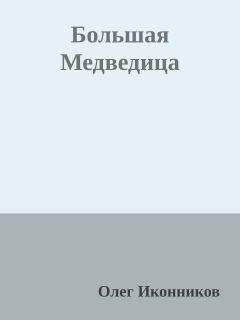— Но вы не можете не зависеть от климата, попросту от улиц, по которым ходите…
— Могу! Человек для того и живет, чтобы все эти зависимости от окружающего свести постепенно к нулю. Общаться с призраками, ходить по воображаемым улицам — если так и жить в реальности, с ума сойдешь.
— Вы сами начинали как актер и считаетесь актерским режиссером — нет желания сыграть самому? Любимов в собственном спектакле по Солженицыну играл того же Сталина…
— Нет, я не играю давно, потому что режиссура — другая работа. Это все очень давно было, тогда я был во Львове премьером и любимцем публики, будущий министр культуры Украины Богдан Ступка еще играл задние ноги лошади, а я уже блистал во всем мировом романтическом репертуаре, включая Олега Кошевого в «Молодой гвардии».
— Вы и внешне похожи.
— Спасибо… В общем, мне нравилось играть, включая Олега Кошевого, — но для сцены я все-таки слишком смешлив. Когда во время клятвы молодогвардейцев, которую полагалось произносить со слезами на глазах, кто-то из них прямо на сцене пустил ветерок, я так и не смог сохранить серьезность, меня корчило от смеха, а вслед за мной и остальных. Дело не в одной смешливости, конечно, — мне всегда хотелось строить свой театр.
— Как бы вы определили его главную особенность?
— Это дело критики, к которой я очень хорошо отношусь. Я давно привык не огорчаться и тем более не обижаться в случае непонимания: ругает человек — значит, его это задевает, в него попадает, он не знает, что с этим делать… Если пытаться как-то это определить самому, то, наверное, это театр любви, но это же общие слова. Я это могу только продемонстрировать, и то не все улавливают, — а уж теоретизировать на эту тему вообще немыслимо. Театр настолько летучее вещество… Записать на пленку — никогда, воспроизвести двадцать лет спустя — почти никогда. Я, может быть, потому и ставлю много, что это все живет мгновение, сколько бы мы ни говорили, что искусство бессмертно… Бессмертно в лучшем случае состояние, которое вы умудрились вызвать. Иногда человек спустя годы может вернуться в него искусственно, вспомнив свои ощущения на спектакле, — тогда у вас получилось. А чаще всего аура заканчивается с выходом из театра — я не верю, что это можно сохранить.
— Я не буду вас спрашивать об украинской политической ситуации…
— И не надо, потому что политика проходит мимо меня. Проблема всегда одна — нехватка любви, но мир ведь вообще состоит из искусственных, противоестественных разделений. Все разделены, все озлоблены, задача искусства — дать сильнейший эмоциональный стресс, чтобы в этой буре на секунду эти границы расплавились, чтобы все вдруг осознали себя просто людьми, вспомнили, что они среди космоса, пылинки, летящие на другой пылинке… Но это рассказать нельзя, это ощущение можно в спектакле передать.
— Я читал, что вы навсегда застыли в девятнадцатилетнем возрасте, — это метафора или вы просто решили удивить интервьюера?
— Я ненавижу напоминания о возрасте, слышать о нем не могу и никогда не принимаю его в расчет. Девятнадцать — возраст жизнеприятия. Я в нем остался, это никакая не метафора, я буквально себя так ощущаю. И ничего не делаю, чтобы выглядеть моложе своих лет. Сколько мне лет — это абсолютно не важно. И чем меньше вы зависите от того, что есть, чем больше сами себе выстраиваете возраст, жизнь, эмоцию, — тем дольше и значительнее вы проживете, точно вам говорю. Человек — это то, что он из себя срежиссировал.
№ 7(610), 2 марта 2009 года