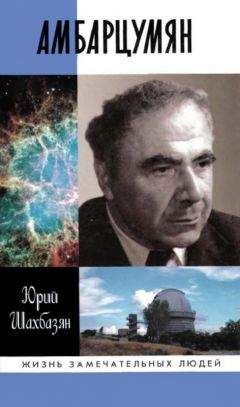Так началась эвакуация, которая, согласно плану, должна была закончиться в Казани. Поезд подолгу стоял на остановках, и потребовалось десять дней для того, чтобы достичь цели — станции Казань. Согласно плану эвакуации, разработанному ещё до войны, в Казани филиал ЛГУ должны были поместить в здании Казанского авиационного института. Однако составители планов не предусмотрели эвакуацию московских учреждений. Выяснилось, что в авиационном институте в Казани уже начали работать несколько московских учреждений, включая ЦАГИ[119], и он уже не мог вместить филиал ЛГУ. Вопрос его размещения могли решить только в Москве. Тогда Амбарцумян решил попытаться, хотя бы на несколько дней, поместиться в здании Казанского университета. Но оказалось, что в университете ждут московскую Академию наук, куда уже прибыла часть сотрудников центрального аппарата, и через несколько дней ждали полный состав из многочисленных академических институтов. Для москвичей в большом зале университета уже было расставлено более сотни кроватей.
Однако ректор Казанского университета благожелательно отнёсся к ленинградцам. Он согласился принять их на несколько дней, пока Центральная эвакуационная комиссия решит судьбу филиала. Ленинградцы вошли в здание Казанского университета и разместились на приготовленных пустых кроватях.
Амбарцумян немедленно выехал в Москву, где и решилось, что филиал должен обосноваться в Елабужском учительском институте.
В конце августа филиалу дали целый корабль, и ленинградцы по Волге и Каме прибыли, наконец, в Елабугу. Городские власти Елабуги отнеслись к ним с большим вниманием. В это время Елабуга была рядовым районным центром и была населена не очень плотно. Поэтому их смогли поместить в домах, принадлежащих жителям города.
Более чем уместно упомянуть об одном поэтическом «творении» профессора Долгова — коротенькой «эпопее» странствования филиала из Ленинграда в Елабугу:
Мы не успели ахнуть, с того начну рассказ,
Как нас эвакуакнуть с верхов пришёл приказ.
В ужасном беспорядке, занявши все углы,
Валялися манатки, баулы и узлы.
И в светлый день июля — двадцатого числа
Моторная кастрюля всё это увезла.
На солнечном перроне легла от складов тень,
В заплёванном вагоне прошёл последний день.
В вагон настлали нары, давно угас закат…
Прощай мой город старый — любимый Ленинград!
С тобой порвались нити, но в сердце увезём
И дом на Гоголь-стрите, и горку с хрусталём!
Друзей нам милых речи за чашей круговой
И с кем-то чьи-то встречи над розовой Невой!
Свист хриплый паровоза, чугунный звон колёс,
Плывут назад берёзы, заводы и откос!
Видали за Любанью, как на земле лежит
Отменнейшею дрянью разбитый «мессершмитт»!
Хоть в сердце есть тревога от птицы в синеве,
Мы всё же — слава Богу! — приблизились к Москве.
Оставив Бологое, зари встречаем свет;
Опасность? Всё пустое! Её здесь больше нет!
Как всё на свете бренно! Что слово? Звук пустой!
И вечером сирены завыли над Москвой.
За рощею зенитки, уставившись в зенит,
За дерзкие попытки стреляли в «мессершмитт».
Стемнело. Вновь тревога, опять сирен гудки!
Тут сердце нам немного сдавило от тоски.
Фашистские вампиры устроили налёт:
Прожекторов ракеты чертили небосвод.
Трассировали пули, зенитки били в цель!
Тут малость мы струхнули и побежали в щель!
Всю ночь рвалися бомбы, мы думали: «Увы!
Скорее! Хоть пешком бы смотаться из Москвы!»
И жались словно кошки; на третью ночь увёз
Под самою бомбёжкой нас тайно паровоз!
Усиленным аллюром пыхтел по рельсам он.
И вот в былинный Муром доставлен эшелон.
Здесь страха нет, бесспорно, но нам не угодишь!
Пропахло всё уборной от почвы и до крыш.
Был ярок на восходе лик солнца, как герань,
При солнечной погоде мы въехали в Казань.
Вот башня Сюимбеки за белизной стены,
И церкви как калеки комолые видны.
Немного повозили по поездным путям,
И вдруг остановили среди помойных ям.
Мы этаким манером глядим туда-сюда:
Постройки из фанеры и беженцев орда.
Был очень образцово отцеплен паровоз.
«Давно ль из Могилёва?» — нам задают вопрос.
Казань нас не пускает, в Казани места нет!
А наши отвечают: «Мы Ленуниверситет!» —
«А мы без направленья не можем вас принять!
Извольте в воскресенье обратно уезжать!»
Казань нас не пускает, в Казани места нет!
Хоть наши им вещают про Ленуниверситет!
Так нас без документов никто не принимал.
Флер свежих экскрементов пять дней носы ласкал!
Весьма непринуждённо стал дождик поливать.
Тогда-то из вагонов нас стали вытряхать.
С прокисшего вокзала деваться нам куда ж?
На актовое зало пошли мы в абордаж!
В вечерней этой схватке держали за грудки,
И били под лопатки тараном сундуки.
Ну, должен я признаться — Москве держаться где ж?
Пробили ленинградцы в рядах швейцаров брешь!
И в актовое зало, не тратя лишних слов,
Внесли с собой не мало — пять тысяч сундуков!
К досаде Академии, с победой на лице,
Устроились на время в рогожном мы дворце.
С балконного помоста за Волгой лес синел!
И дни скользили просто, с тревогой, но без дел!
Но думалось в палаццо рогожном сём с утра,
Как будто приниматься за дело нам пора!
Однажды утром алым раздалось там и тут,
Что нас всем филиалом в Елабугу везут.
В рогожном светлом зале на эту новость все
«Елабуга!» вскричали: «Где это? Кес ке се?»
Про сей приют на Каме ни вы, ни он, ни я —
Мы в Ленинграде с вами не слышали, друзья!
Но ловкий мальчик Вильнер уже отъезду рад!
Толкует всем умильно про коз и поросят!
Как миги жизни ярки — прекрасная пора!
Профессорши — в доярки, в колхоз — профессора!
В Елабугу — как грустно… Но выполнить сей план
Приказывает устно Виктор Амбарцумян!
В Елабуге унылой — судьба нам зимовать!
Тут бросились все мыло в Казани закупать!
И на базаре бодро искали каждый час
Топор, ухваты, вёдра, кастрюли или таз.
На улицах немало дивилась детвора,
Как ржавые мангалы несли профессора.
И было утро чисто, омытое от снов.
Поехали на пристань пять тысяч сундуков!
Семья Амбарцумянов поместилась в доме, в котором с ними жили и хозяева. Дом был расположен на возвышении, близко к берегу Камы. Здесь им выделили две не очень тёплые комнаты. Кроме того, около входа был маленький закуток, где помещалась кровать самого Амбарцумяна. Зимой в Елабуге морозы достигали 45 градусов. Здесь они прожили два с половиной очень трудных года. В особенности трудной была первая, очень свирепая зима. Не было тёплой одежды, и питались одной заварухой из муки. Дети, естественно, часто болели.