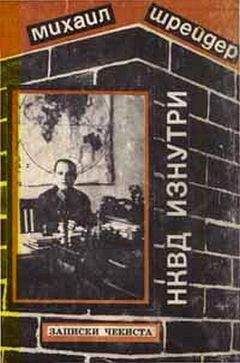Во время возникшей паузы я снова попытался заговорить о своем деле, в частности, о том, как был арестован по телеграмме Ежова и как меня все время бьют и пытают, требуя признаться в никогда не совершенных страшных преступлениях.
Но Берия нетерпеливо перебил меня, сказав, что не отвечает за действия врагов, пробравшихся к руководству НКВД, по приказу которых я арестован.
— Гражданин Берия! — сказал я. — Заявляю вам как представителю Сталина, что я ни в чем не виноват и мое дело является полностью сфальсифицированным, как и дела многих арестованных, находящихся в камерах.
— За других не ручайтесь, — сухо оборвал Берия.
— Прошу вашего указания, — продолжал я, — о тщательном расследовании моего дела. Ведь я выходец из ни щей семьи, получивший от советской власти все, о чем только может мечтать человек, и если бы я действительно совершил преступление против моей партии и Родины, то меня следовало бы не расстрелять, а жестоко пытать и резать на куски.
— Резать и пытать вас никто не собирается и бить никто не будет, — пообещал Берия. — Дело расследуем, разберемся; окажетесь виновным — накажем, арестованы по ошибке — освободим, подлечим и восстановим на работе. — Затем после небольшой паузы он спросил: — Есть у вас еще что-либо ко мне?
— Прошу вашего распоряжения отпустить меня домой, — выпалил я.
Мое заявление вызвало смех у всех присутствующих.
— Домой еще рано, — усмехнулся Берия.
— Тогда, если можно, прошу направить меня во внутреннюю тюрьму, поближе к дому. Там хоть есть койки и одеяла, а в Бутырке арестованных в камерах набито, как сельдей в бочках.
— Неужели так много? — деланно удивился Берия.
Тогда я, торопясь, стал говорить о безобразном медицинском обслуживании в больнице Бутырской тюрьмы, о тяжело больных и избитых товарищах, не получающих медицинской помощи, в частности, о немецком коммунисте Эберлейне и о ряде других (я помнил фамилии почти всех товарищей, которые лежали со мной в больнице). Когда я произнес фамилию Эберлейна, Берия недовольно поморщился. Далее я рассказал, что мне с кровотечениями и язвой желудка так же не было оказано никакой медицинской помощи.
— Не может этого быть, вы преувеличиваете, — сказал Берия. — Но проверим и разберемся.
Затем, подозвав начальника Лефортовской тюрьмы, Берия распорядился отправить меня во внутреннюю тюрьму и добавил:
Пусть его осмотрит врач, и если есть язва желудка, надо улучшить рацион питания. — И, взяв из вазы с фруктами, стоявшей на столе, апельсин и яблоко, он подал их мне.
Что вы, зачем? Не надо, гражданин Берия, — стал отказываться я, тем более что, когда я встал, руки у меня были заняты поддержкой брюк, с которых при входе сре зали пуговицы, и я не мог взять фрукты.
— Бери, бери, не стесняйся, — вдруг переходя на «ты» и инсценируя заботливость, сказал Берия. — Тебе же нужны витамины. — И с этими словами он сам засунул мне апельсин и яблоко в карманы.
Обнадеженный и обрадованный, в сопровождении начальника тюрьмы я вышел из кабинета. Но как только дверь за нами захлопнулась и мы двинулись вдоль коридора к выходу, меня как ножом по сердцу резанул страшный, нечеловеческий вопль, раздавшийся из-за дверей соседнего кабинета. Так мог кричать человек, которого не просто били, а жгли каленым железом или подвергали каким-либо другим изуверским пыткам. Подобные же крики раздавались почти из-за всех дверей, выходящих в коридор, по которому меня вели. И я подумал о том, что только что Берия пообещал, что меня бить и пытать не будут, а тут во всех кабинетах, по-видимому, в честь его приезда (ведь я же видел, какая помпезная встреча была устроена, когда все следователи стояли навытяжку вдоль ступенек лестницы) следователи изощряются в пытках над заключенными. Неужели все его заверения ничего не стоят, или он почему-то только для меня решил сделать исключение? Мое приподнятое настроение стало постепенно меркнуть.
Тем временем мы вышли из помещения Лефортовской тюрьмы. Начальник посадил меня с двумя конвоирами в обычную легковую машину, и мы поехали во внутреннюю тюрьму. Эта необычная для заключенного перевозка тоже в какой-то мере обнадеживала.
Уже рассветало, когда начальник внутренней тюрьмы Миронов (который в прошлом, будучи вахтером, бывало, заискивал передо мною, а сейчас, естественно, сделал вид, что не узнал) поместил меня в камеру, кажется, № 4 или № 6, где кроме меня было уже три человека.
Один из них, Григорий Якубович, лежа на постели, с ожесточением вгрызался в огромную сырую луковицу, нос и щеки его были измазаны соком. Я хорошо знал Якубовича как руководящего работника УНКВД Московской области и, хотя никогда не соприкасался с ним по работе, всегда относился к нему недоброжелательно. Одно время он был заместителем Радзивиловского, а в период ежовщины был выдвинут на должность заместителя начальника УНКВД Московской области. А это надо было «заслужить».
— Что это ты по ночам лук жрешь? — вместо привет ствия спросил я.
— А, это ты, Миша! — надев очки и узнав меня, о ветил он. — Питаюсь витаминами. Витамины — великая вещь!
Фамилию второго заключенного не помню. Это был бывший сотрудник НКВД в звании капитана.
Третьего я не узнал, но он вдруг обратился ко мне и едва слышно произнес:
— Как, и ты тоже попал?
А потом, видя, что я недоумевающе смотрю на него, добавил:
— Ты что, не узнал меня? Я — Мирзоян! — и заплакал.
Присмотревшись внимательно, я обомлел: передо мною сидел на койке согнувшийся старик, худой, как скелет, обросший седой щетиной, с провалившимися глазами. Это был первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Леон Исаевич Мирзоян, с которым мы последний раз виделись в Алма-Ате на 1 мая 1938 года. Тогда он был здоровым и цветущим человеком, веселым, жизнерадостным, преданным партии и Сталину. Когда я взял Мирзояна за руку, то почувствовал, что у него не было сил ответить на мое рукопожатие.
Как я уже писал в главе об Алма-Ате, наши встречи с Мирзояном носили чисто служебный характер. Я бывал у него в кабинете, докладывая о милицейских делах, несколько раз слышал его выступления на заседаниях Бюро ЦК Казахстана и других совещаниях и собраниях. У нас с ним было несколько конфликтов в связи с введением паспортного режима. Кроме того, когда я узнал от Реденса, что на него по заданию Москвы подбирают материал, я старался поменьше сталкиваться с ним, но все же наши отношения были нормально деловыми.
Здесь, в камере, общее горе сразу сблизило нас, и мы подружились. Прежде всего Мирзоян поинтересовался, не знаю ли я чего-либо о судьбе жены и детей. Но, к сожалению, я ничего не знал. Затем он рассказал, как, получив на руки решение ЦК за подписью Сталина об освобождении его от должности первого секретаря ЦК КП Казахстана и отозвании в распоряжение ЦК ВКП(б), он с семьей в отдельном вагоне со своей личной охраной выехал в Москву. Когда поезд прибыл в Куйбышев, в нему в вагон вошли местные работники НКВД и предъявили ордер на арест. Сопровождавшие его работники охраны, жена и дети были выведены из вагона, а он в этом же вагоне под охраной куйбышевских чекистов был доставлен в Москву и прямо с вокзала привезен в Лефортовскую тюрьму.