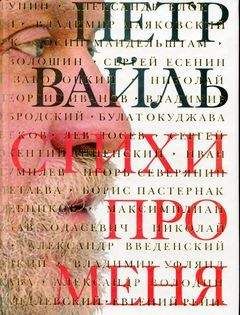[1950,1951]
Редкостная трезвость, которой и прежде почти не было, и после появилась лишь в позднейших поэтических поколениях — у Бродского, Лосева, Гандлевского. "Я верю не в непобедимость зла, / А только в неизбежность пораженья" — как замечателен этот сдвиг от метафизики к действительности, от обобщения к частному случаю, от тумана к конкретности. Так, у Гоголя о переходе Андрия к полякам говорит еврей Янкель, отвечая на патетическую риторику Тараса: "Выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? — Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним".
В прозе Иванов словно дает разъяснение, горестно и брезгливо: "Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружащее вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки". Его забота—снизить и сузить, не дать себе закружиться ввысь и вширь.
Трезвость можно считать фирменным знаком ивановской поэзии его долгих последних тридцати лет. Холодное мужество перед лицом отчаяния. Это вызывает почтение, такому хочется подражать. И подражали. Поэзию так называемой "парижской ноты" называли и называют примечанием к Иванову. Анатолий Штейгер: "До нас теперь нет дела никому — / У всех довольно собственного дела. / И надо жить как все, но самому... / (Беспомощно, нечестно, неумело)".
Иванов отчеканил еще в 30-м: "Так черно и так мертво, / Что мертвее быть не может / И чернее не бывать, / Что никто нам не поможет / И не надо помогать". Без иллюзий, без упований на под держку сверху ли, снизу — все равно. "А люди? Ну на что мне люди?"
Подозреваю, помня себя, что такой пример страшно соблазнителен и страшно разрушителен для молодого сознания, и рад тому, что прочел Иванова взрослым, когда к подобной позиции — все сам, "никто не поможет" — пришел самостоятельно. Жизнь привела.
Иванова привела жизнь к этим жутковатым стихам — трансформация, поражавшая всех, кто знал его в ранние годы. "Каким папильоном кажется Жоржик, порхавший в те грозные дни среди великих людей и событий. Таковы же были и его стихи: как будто хороши, но почти несуществующие; читаешь и чувствуешь, что, в сущности, можно без них обойтись" — это Чуковский об Иванове времен революции. В 1916 году Ходасевич пишет проницательно и пророчески: Г.Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя".
Продолжая и подтверждая известное ей, несомненно, предсказание Ходасевича, его вдова Нина Берберова через полвека написала о позднем Иванове: "В эти годы писал свои лучшие стихи, сделав из своей личной судьбы (нищеты, болезней, алкоголя) нечто вроде мифа саморазрушения... Он далеко оставил за собой всех действительно живших "проклятых поэтов" и всех вымышленных литературных "пропащих людей": от Аполлона Григорьева до Мармеладова и от Тинякова до старшего Бабичева".
Как вообще в берберовских мемуарах, здесь мешается верность наблюдений с вымыслом, порожденным тем, что по-английски называется wishful thinking: думается как желается. Ходасевич и Иванов терпеть не могли друг друга. Идейная верность покойному мужу окрашивает все написанное Берберовой об Иванове. Отдадим должное: она высоко оценила его поздние стихи, но неприязнь к человеку осталась, побудив и к домыслам, и даже к откровенным выдумкам (особенно об обстоятельствах ивановской смерти).
Личная судьба как миф саморазрушения — тезис броский, хотя и слишком очевидный: сама поэт, Берберова не может не знать, что только так — мифологически — и преображаются у больших поэтов драматические обстоятельства жизни. Но набор имен — слишком произволен. Если и можно разглядеть в ивановских стихах забубенность Аполлона Григорьева, то уж с Тиняковым роднит разве только то, что Иванов любил повторять его двустишие: "Любо мне, плевку-плевочку, / По канаве проплывать". То, как Иванов описал Тинякова в своей прозе, не оставляет никаких сомнений в их полной чуждости. И уж совсем не к месту Мармеладов: чего-чего, а жалкости в поэзии Иванова нет вовсе.
При этом упущено главное: ивановский "миф саморазрушения" теснейшим и самым прямым образом связан с разрушением России. То большое и настоящее горе, о котором говорил Ходасевич, — вовсе не личная судьба, а остро личное переживание того, что "Россия рухнула во тьму".
Более того, по эмигрантским литераторским меркам обстоятельства личной жизни Иванова складывались благополучно. У его жены Ирины Одоевцевой в Риге был состоятельный отец, который выплачивал дочери и зятю приличный пенсион. После его смерти Ивановым досталось наследство. Трудности начались лишь в 40-е: доходы от недвижимости из ставшей советской Риги перестали поступать, а полученные деньги закончились. При этом уже с конца 20-х — отчаяние, примеривание к нему, попытки с отчаянием сосуществовать, осознание невозможности приспособиться, и всё только оттого, что там ничего нет, а если и есть, то другое, чужое. Как он написал, с характерной чуть истерической модуляцией голоса: "Но в бессмысленной этой отчизне / Я понять ничего не могу". Или это: "Россия тишина. Россия прах. / А может быть, Россия — только страх. / Веревка, пуля, ледяная тьма / И музыка, сводящая с ума".
Та самая музыка, которая "жизнь мою сожгла". Это ивановское слово "музыка" — сама жизнь, ее поток. Впрочем, не только ивановское — в том же смысле слово употребляют и Блок, и Мандельштам, и наша повседневная речь: "Ну, вся эта музыка!.."
Вторая часть стихотворения, написанная годом позже первой, а в год смерти к ней присоединенная, — слабее, потому что перепев, потому что неуместная вдруг напыщенность образов. Всё приводят в норму — ивановскую, только ивановскую норму! — две последние строки. Он выговаривает то, что хрестоматийный поэт произносить не должен, но что вызревало в нем давно. Одоевцева вспоминает, как еще в 33-м в доме редактора рижской газеты "Сегодня", когда кто-то завел речь о том, что для поэта страшно пережить себя и умереть при жизни, Иванов заметил: "Я бы, пожалуй, согласился умереть как поэт, чтобы продолжать как человек жить до ста лет — с табачком и водочкой, разумеется". (Здесь проговорены на будущее сразу два стихотворения — еще и то, которое начинается обреченно аристократически: "Если бы жить... Только бы жить... / Хоть на литейном заводе служить", а заканчивается демократически примирительно: "Трубочка есть. Водочка есть. / Всем в кабаке одинакова честь!")
Жизнь иссякает так же, как талант, только дар — самопроизвольно, а жизнь — злонамеренно и насильственно. Об этом: "Как обидно — чудным даром, / Божьим даром обладать, / Зная, что растратишь даром / Золотую благодать. / И не только зря растратишь, / Жемчуг свиньям раздаря, / Но еще к нему доплатишь / Жизнь, погубленную зря".