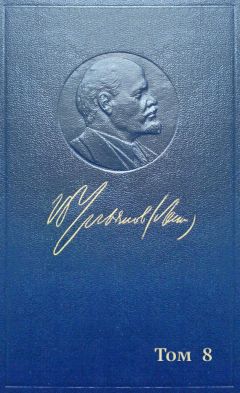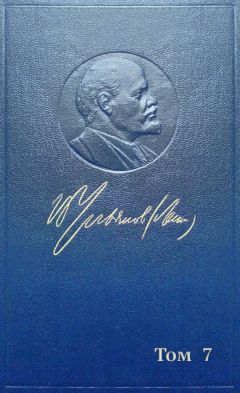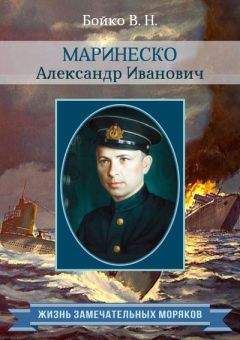В Музей Арктики и Антарктики можно увидеть черную многослойную палатку с белой надписью по низенькой крыше: «С. С.С. Р.»; а по другому скату: «Северный полюс – 1». Это подлинная палатка, в которой шесть месяцев дрейфовала на плавучей льдине первая советская экспедиция к полюсу. Здесь и жила и работала легендарная четверка папанинцев. В витрине, выставлены их личные вещи – ручка, унты, блокнот, – среди которых почетное место занимает маузер самого Папанина, висящий на тонком ремешке рядом со своей деревянной кобурой, украшенной серебряной дарственной пластинкой. Иван Папанин был мужик простой и незамысловатый, комиссарского сословия, и занимал ответственейший пост начальника Главсевморпути. И на льдине, затерянной в полярной ночи за тысячи миль от СССР, он осуществлял идейно – политическое руководство всеми сторонами жизни и деятельности остальных трех интеллигентов, лично отвечая, как испытанный и облеченный доверием партии коммунист, за все, что происходило на Северном полюсе.
На дворе был как раз 1937 год. И здесь требовалась особая бдительность и политическая зрелость. Коварный враг внедрялся в любые ряды вплоть до ветеранов революции и командования Красной Армии, так что за моржей с белыми медведями ручаться и подавно нельзя было, не говоря уж об ученых-полярниках. Тем более что самолеты, доставив экспедицию, улетели, и никакой связи с Большой Землей с ее руководящими и карающими органами не было, кроме радио.
Радистом СП–1 был знаменитейший тогда Эрнст Кренкель, в неписаной табели о рангах – коротковолновик мира №-1. Достоинства Кренкеля как радиста и полярника были выше всяческих похвал. Но, имели у него, к сожалению, и два недостатка: он был немец и беспартийный. А советская дрейфующая полярная станция «Северный полюс – 1» была частью социалистического общества. И, несмотря на географическую удаленность, оставаться в стороне от политических бурь никак, разумеется, не могла. Даже на льдине советские люди должны были возглавляться партийной организацией. Минимальное количество членов для создания партийной ячейки – три человека. И такая ячейка на льдине была! И секретарем партячейки был, конечно, сам Папанин.
В эту низовую парторганизацию с неукоснительным порядком поступала закрытая политическая информация – только до сведения коммунистов. Беспартийный Кренкель принимал эти сообщения, ставил гриф «Секретно» и вручал парторгу Папанину. А закрытую информацию надлежало обсуждать на закрытых партсобраниях.
Папанин объявлял закрытое партсобрание – присутствовать могли только члены партии. Остальным надо было освободить помещение. Остальные – это был Кренкель. Помещение же на Северном полюсе имело только одно, площадью в шесть квадратных метров, в чем и может удостовериться каждый, прочитав в музее табличку на палатке.
В итоге, Кренкель, проклиная все, рысил по снегу вокруг палатки, заглядывая в иллюминаторы – скоро ли они там закончат. Он тер варежкой нос и щеки, притопывал, хлопал руками по бокам, считал минуты на циферблате, и про себя, возможно даже, говорил разные слова о партии и ее мудрой политики. Они там сидели на нарах, выслушивали сообщение, выступали по очереди со своим мнением, заносили его в протокол, вырабатывали решение насчет очередных врагов народа, голосовали, и составляли текст своего обращения на материк. А в конце, как положено, пели стоя «Интернационал». Спев гимн большевиков, Папанин разрешал Кренкелю войти, вручал ему это закрытое партийное сообщение, и Кренкель передавал его по рации.
Партийная жизнь в стране била ключом, и полгода Кренкель чуть ли не каждый Божий день бегал петушком в ледяном мраке вокруг палатки. Он подпрыгивал, приседал, и мечтал, что он хотел бы сделать с Папаниным, когда все это кончится.
Ловля белого медведя на живца была наиболее гуманной картиной из всех, что сладко рисовались его воображению. Через неделю умный Кренкель подал заявление в партию. В каковом приеме ему Папаниным было отказано по той же причине, по какой ему надлежало являться немцем.
От скуки и ничегонеделания, и для придания себе значимости, Папанин расстилал на столике тряпочку, доставал из кобуры маузер, из кобурного пенала вынимал отверточку, ежик, ветошку, масленку, разбирал свою 7,62 мм машину, любовно протирал, смазывал, собирал, щелкал, вставлял обойму на место и вешал маузер обратно на стойку палатки, на свой специальный гвоздик. После чего успокоено ложился спать. Этот ежедневный процесс приобрел род некоего милитаристского онанизма, он наслаждался сердцем и отдыхал душой, овладевая своей десятизарядкой, и на лице его появлялось совершенное удовлетворение. Постепенно он усложнял процесс чистки маузера, стремясь превзойти самого себя и добиться немыслимого мастерства. Он собирал его на время, в темноте, с завязанными глазами, на ощупь за спиной, и даже одной рукой. Кренкель, натура вообще миролюбивая, возненавидел этот маузер, как кот ненавидит прищепку на хвосте. Он мечтал утопить его в проруби, но хорошо представлял, какую политическую окраску могут придать такому поступку. И под радостное щелканье затвора продолжал свое политинформационное чистописание… Дрейф закончился, льдина раскололась, ледокол «Красин» снял отважных исследователей с залитого волнами обломка, Кренкель педантично радировал в эфир свое последнее сообщение об окончании экспедиции. Окруженные восхищением и заботой экипажа, извещенные о высоких правительственных наградах – всем четверым дали Героя Советского Союза! – полярники потихоньку поехали в Ленинград. В пути степень их занятости несколько поменялась. Гидролог с метеорологом писали научные отчеты, Кренкель же предавался сладкому ничего неделанью. А Папанин по-прежнему чистил свой маузер. За шесть месяцев зимовки, когда у любого нормального человека нервишки подсаживаются, это рукоблудие приобрело у него характер маниакального психоза.
Кренкель смотрел на маузер, сдерживая дыхание. Больше всего ему хотелось стащить незаметно какой-нибудь винтик и поглядеть, как Иван Дмитриевич рехнется, не отходя от своей тряпочки, когда маузер не соберется. Но это было невозможно: в 38 году такое могло быть расценено не иначе как политическая диверсия – умышленная порча оружия начальника экспедиции и секретаря парторганизации. Десять лет лагерей Кренкелю представлялись чрезмерной платой за удовольствие. Он подошел к вопросу с другой стороны. Зайдя к Папанину в его обязательное оружейное время, перед сном, он с ним заговорил, отвлекая внимание, – и украдкой подбросил на тряпочку крохотный шлифованный уголок, взятый у ребят в слесарке ледокола. И смылся от греха.