Отказалась от сцены, имени, богатого мужа, успеха. Он забрал её бриллианты, деньги, славу, покой душевный. И вот видишь, таскается за ним по всем кабакам мира. Сидит по ночам… ждёт его!
Я молчал, взволнованный этим рассказом. Постепенно зал затих.
Владеско играл одну из моих любимейших вещей — «Концерт Сарасате». Это было какое‑то колдовство. Временами из-под его пальцев вылетали не присущие скрипке, почти человеческие интонации. Живые и умоляющие, они проникали в самое сердце слушателей. Как лунная голубая дорога, его мелодия властно влекла за собой в какой‑то иной мир, мир высоких, невыразимо прекрасных чувств, светлых и чистых, как слезы во сне.
Я не мог отвести глаз от него. Он играл, весь собранный, вытянутый, как струна, до предела напряжённый и словно оторвавшийся от земли. Пот градом катился с его лба. Огневые блики гнева, печали, боли и нежности сменялись на суровом лице. Обожжённое творческим огнём, оно было вдохновенно и прекрасно.
Он кончил. Буря аплодисментов была ответом. Опустив скрипку, с налитыми кровью глазами, ничего не видя, полуслепой, Владеско уходил с эстрады, даже не кланяясь. Равнодушно и нехотя он возвращался на землю.
Я оглянулся. Сильвия ждала его стоя. В её огромных зрачках испуганной птицы отразился весь тот заколдованный мир, о котором пела скрипка. Серебряными ручейками по щекам катились слезы.
Владеско подошёл к своему столу. Она протянула к нему руки, ничего не видя и не слыша. Сноп красных роз, присланный ей кем‑то из поклонников, лежал на столе. Он сбросил его на пол и упал в кресло.
Большим шёлковым платком Сильвия отирала пот с его лица. Постепенно оно принимало обычное выражение…
— Да… — мечтательно сказал Петя, улыбаясь куда‑то в пространство. — Но когда он играет концерт Сарасате…
В голове у меня бешено крутились строчки.
Так родилась песня…
Прошло года три. За это время я успел побывать во многих странах. Пел в Александрии, Бейруте, в Палестине. Был в Африке, где снимался в кинофильме.
В этот сезон я начал своё концертное турне с Германии. Первые гастроли были назначены в Берлине. В прекрасном и большом «Блютнер-зале», отделанном палисандровым деревом и звучащем, как резонатор виолончели, петь было приятно и интересно.
В моей программе было много новых вещей. Был в ней и «Концерт Сарасате», как я назвал песню, рождённую в Черновицах. Песня имела успех. Её уже знали.
В день концерта у меня в отеле появился Петя Барац. Он был в Берлине проездом, направляясь в Дрезден. Мы разговорились.
— Знаешь, кто тут играет в Эден-Отеле? — неожиданно вспомнив, спросил он.
— Кто?
— Владеско. Помнишь, тот? Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню.
— Напрасно, — сухо заметил я. — Он не стоит песни.
— Он был страшно заинтригован, — продолжал Петя, словно не слыша моих слов, — и сказал, что сегодня обязательно будет на твоём концерте.
На этом разговор кончился. Мы распрощались до вечера.
Огромный «Блютнер-зал» был переполнен. В этот вечер я был в приподнятом настроении. Перед началом концерта заглянул в дырочку занавеса. Владеско сидел в первом ряду. Рядом с ним в простом и строгом платье сидела Сильвия Тоска.
Владеско раскланивался. Его жирное круглое лицо сияло, как начищенный медный таз на солнце. Он пришёл слушать «свою» песню.
«Подожди же! — злорадно и весело подумал я. — Ты у меня ещё потанцуешь!»
Ждать ему пришлось долго. «Концерт Сарасате» стоял последним в программе. Владеско слушал внимательно и слегка удивлённо. Как артист, редко свободный от кабацкой работы, он, по-видимому, не бывал на концертах других артистов и, кроме самого себя, вероятно, редко кого‑нибудь слушал. Всем своим видом и горячими аплодисментами он старался дать мне понять своё удовлетворение от моего искусства.
Но я был сух. Ни улыбкой, ни поклоном не выражал ему никаких своих симпатий или благодарности. «Подожди, подожди!»
Весь концерт я пел, стоя точно посреди эстрады, но, когда дошёл до последней песни, я назвал её, демонстративно резко перешёл на правый конец эстрады и остановился прямо против его места в первом ряду. Аккомпаниатор сыграл вступление, я начал:
Ваш любовник скрипач. Он седой и горбатый,
Он вас дико ревнует, не любит и бьёт.
Но когда он играет «Концерт
Сарасате»,
Ваше сердце, как птица, летит и поёт…
Я пел, глядя в упор то в его глаза, то в глаза Сильвии. Владеско слушал в смертельном испуге. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он весь как‑то съёжился, почти вдавившись в глубь кресла.
Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил…
Слова били, как пощёчины. Он прятал лицо, отворачивался от них, пытался закрыться программкой, но они настигали его — жёсткие, точные и неумолимые, предназначенные только ему, усиленные моим гневом, темпераментом и силой интонаций…
И когда вы, страдая от ласк хамоватых,
Тихо плачете где‑то в углу, не дыша, —
Он играет для вас свой «Концерт
Сарасате»,
От которого кровью зальётся душа!
— А-а-а-а! — сквозь песню донеслось до меня. — А-а-а-а! — Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками.
Я допевал песню:
Безобразной, ненужной, больной и брюхатой.
Ненавидя его, презирая себя,
Вы прощаете все за «Концерт
Сарасате»,
Исступлённо, безумно и больно любя!
Мои руки, повторявшие движения пальцев скрипача, упали. В каком‑то внезапном озарении я бросил наземь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на неё ногой.
Зал грохнул, точно почувствовав, что сейчас уже не концерт, а суд, публичная казнь, возмездие, от которого некуда деться, как на лобном месте.
Толпа неистовствовала. Стучали ногами, кричали, свистели и ломились стеной к эстраде.
У него даже не было сил подняться.
За кулисами уборная моя была полна людей. Друзья, знакомые и незнакомые, актёры и актрисы, музыканты и журналисты и просто люди из публики заполняли её.
Я едва успел опуститься в кресло, как в дверях показалась фигура Владеско. Он шёл на меня вслепую, ничего не видя вокруг, разъярённым медведем, наступая на ноги окружающим и расталкивая публику. Все замерли. «Сейчас будет что‑то ужасное!» — мелькнуло у меня. Я встал.
Одну минуту мы стояли друг против друга, как два зверя, приготовившихся к смертельной схватке. Он смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, белыми от ярости, и тяжко дышал. Это длилось всего несколько секунд. Потом… Что‑то дрогнуло в нем. Гримаса боли сверху донизу прорезала его лицо.


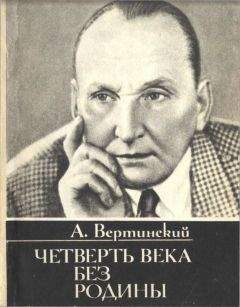
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

