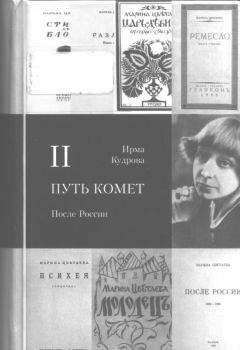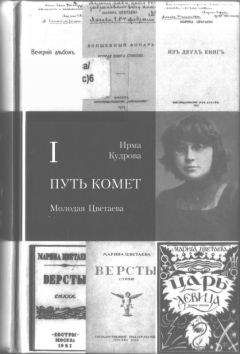Маленький Мур — страстная любовь матери — был совсем другим, чем старшая сестра в его возрасте. Способностей вундеркинда, которыми была наделена маленькая Аля, в нем не обнаруживалось. Не было и Алиной сердечности и романтичности, так согревавших Цветаеву в трудные московские годы. Но развивался он тоже стремительно: опережая возраст, начинал уже читать и писать. Мальчишки на улице не давали ему проходу из-за его неуклюжести, полноты и рослости — счастье, что он почти не понимал по-французски.
«Ему шесть лет, на вид и вес — десять русских и 14 французских», — сообщала Цветаева в одном из писем. Пока он еще был привязан к матери, баловавшей его сверх всякой меры, но пройдет немного времени, и он усвоит по отношению к ней требовательный и даже снисходительный тон. Несмотря на все свое обожание, Цветаева рано угадывает, что сын, как и дочь, — совсем другой душевной породы, чем она сама. «Ничем не пронзен», — скажет она о нем позже с горечью.
«Дома у меня жизнь тяжелая, — признается Марина Ивановна в одном из писем 1931 года, — как у всех нас — мы все слишком особые и слишком разные. Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! человека — не-автомобиля, не-газеты… Кто бы мне всегда — даже на смертном одре — радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной “интересно”, — и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома: посуда — метла — котлеты — сама понимаю…»
Марк Слоним вспоминает: «На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно, потому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Медон. <…> Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью. Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря вбок, по своему обыкновению, не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей не свойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас очень трудно. “Вы ведь знаете, — добавила она, — для меня самое лучшее время — утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок, выбирать что-нибудь подешевле, какое тут писание. Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя, для этого нужен досуг, тишина, одиночество…”»
Известие о Пастернаке, неудачи с публикациями, груз домашнего быта, отъединение Али, безрезультатные попытки мужа найти заработок. Все сгустилось этой весной до последней безысходности.
Каждая попытка прорвать ее круг, казалось, сжимала его еще теснее.
Временами Цветаева видит себя просто плохим автоматом, механизм которого еле действует — «из-за остатков души, мешающих машине», как она говорит.
Но зреет и еще одна утрата. Готовится к отъезду в дальние края ближайшая приятельница последних двух лет — Елена Александровна Извольская. Дочь бывшего русского посла в Париже, образованнейший человек, прекрасная собеседница, Извольская была не только поклонницей, но и знатоком поэзии. В широкий круг ее знакомств входили и русские и французы, в числе их были, в частности, философы Лев Шестов и Жак Маритен.
По приглашению Цветаевой Извольская приезжала к ней в Савойю летом 1930 года. То дождливое грозовое лето их особенно сблизило.
Теперь предстояла разлука: в апреле Извольская уезжала к жениху в Японию.
В предотъездные дни Цветаева выкраивала каждый свободный час, чтобы быть рядом с Еленой Александровной, помочь ей в сборах. И вот день отъезда настал.
…От нас? Нет, по нас
Колеса любимых увозят!
С такой и такою-то скоростью в час…
Все, кто был ей дорог, будто сговорились этой весной оставить ее разом, чтобы не растягивать страданий, — замолкали, отстранялись, уезжали… Уже из окна тронувшегося вагона Извольская вгляделась в лицо Марины Ивановны: то была трагическая маска, которую, казалось, ничто не может оживить…
Но чем глубже душевный провал, чем теснее обступают Цветаеву невзгоды, тем яростнее вспыхивает в ней сопротивление.
Тем решительнее она отодвигает все помехи и садится за чистую тетрадь.
«Кастальский ток» творчества — ее «живая вода», подымающая из праха, вливающая новые силы, заживляющая все раны. Всегда разительно сопоставление ее стихов и прозы с биографическим подстрочником. С той жизненной ситуацией, в которой они созданы.
Откуда, из каких глубин подымается в ней всякий раз это противостояние насилию и нажиму жизни? Подавленность, жалобу мы слышим не раз в ее письмах близким людям. Но вот отложено письмо — и придвинута рабочая тетрадь. На белую страницу ложатся первые строки. И в них сразу звучит другой голос: независимый, уверенный, свободный, темпераментный. И это, может быть, гораздо больше ее голос. Ибо здесь, в своей рабочей тетради, она уже не перед лицом «житейских обстоятельств», а перед лицом того, что ей всегда было по плечу и по силам.
«Благоприятные условия? Их для художника нет, — писала Цветаева в очерке «Наталья Гончарова». — Жизнь сама — неблагоприятное условие. Всякое творчество <…> перебарывание, перемалывание, переламывание жизни — самой счастливой. <…>
И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые благоприятные. (Так молитва моряка: “Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!”)»
В ближайшие же недели после отъезда Извольской она начинает — и завершает — «Историю одного посвящения», прозаический очерк-портрет Осипа Эмильевича Мандельштама.
Тема и повод возникли случайно; об этом рассказано в первых же абзацах очерка:
«Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей. Беловики писем. Черновики рукописей. “Это беречь?” — “Нет, жечь”.— “Это жечь?” — “Нет, беречь". “Жечь”, естественно, принадлежало ей, “беречь” — мне, — ведь уезжала она…»
Заразившись этой расправой, Цветаева решает учинить такую же в собственном архиве. Аля пытается вмешаться, остановить — безуспешно:
«— Мама, не жгите!
— Пусть, пусть горит.
— Марина, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть, о вас?
— О мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?
Подношу к глазам. Двустишие. Губы, опережая глаза, произносят:
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим…»
То был «подвал» в старом номере газеты «Последние новости», подписанный именем поэта Георгия Иванова. Отрывок из его книги «Китайские тени», вскоре вышедшей в свет. Отрывок повествовал о Мандельштаме в Крыму в предреволюционные годы. Цветаева ахнула, прочтя первые же попавшиеся на глаза строки. Мандельштамовские стихи 1916 года, к ней обращенные, были выданы за дань восхищения некоей хорошенькой врачихой, встреченной поэтом в Коктебеле. Мало этого — сам Мандельштам представал под пером Г. Иванова не просто нелепым и странным, но и оглупленным, а отношение к нему Волошиных — Максимилиана Александровича и его матери — чуть не в пасквильных тонах!