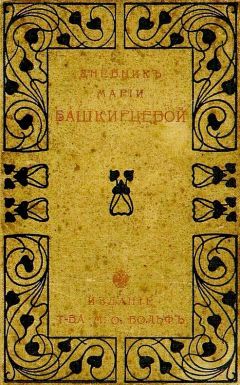Еще такое молодое, сердце поэта познало все бездны отчаяния. Возможно, это вместе с верой и талантом, каким одарил его Бог, позволило ему достигать в своем творчестве такой лучезарной красоты, которая сделает его бессмертным.
Он сразу же, познакомившись с Сертом, сумел понять подлинные масштабы его личности и его творений:
«Там, где сейчас находится его картина, — писал он мне по поводу собора в Виче, — она должна волновать еще больше. Надеюсь, вы оба счастливы. Это вершина, где можно немного отдохнуть… Я знаю об успехе Серта, знаю, что он был принят королем Испании[301]. Дорогая Мизиа, меня радует все, что приносит счастье Серту и Вам…»
«…Пусть одиночество не угнетает Вас. Во-первых, это не одиночество, это общение с Богом, и в нем с редкими друзьями, которые Вас особенно любят. Толпа и шум Парижа не помешали нам видеть и слышать друг друга. Здесь, в тишине, которую некоторые назвали бы мертвой (ее нарушает лишь чириканье птиц и пение монахов), я слушаю Бога и люблю моих друзей возвышенной любовью. Вы стали орудием Бога, позволившим мне жить жизнью, полной нежности и любви, единственной, которая для меня с этих пор возможна. Или умереть, иссушить себя, или жить одним светом. Было бы ужасно, Мизиа, покинуть мир с иссушенным сердцем — восхитительно и весело уйти из него от избытка любви…»
Да, Реверди действительно от избытка любви удалился от света, где слишком многое могло его смертельно ранить.
Однако, как всякому художнику, ему были необходимы камни и огни Парижа и друзья. К примеру, он не мог расстаться с Пикассо. С самых юных лет он был безгранично предан ему. Эти преданность и поклонение не омрачили никакие бури.
Судьба Пикассо сейчас, когда его жизнь, как и моя, вступила в свой последний этап, представляется мне типичной для того, что происходило в художественном мире начиная с войны 1914-го. Снобизм тех, кто, пожимая плечами, говорит о нем как об «огромном блефе», выводит меня из себя, если это возможно, еще больше, чем орды так называемых посвященных, сделавших из Пикассо всемогущего бога, чей малейший намалеванный в шутку на клочке бумаги рисунок вставляется в дорогую раму и вешается на почетное место в квартире его счастливых обладателей. И то и другое смехотворно. Но, увы, со временем стало так же и опасно. Слава Пикассо — возможно, единственная в истории, когда речь идет о живом художнике, — так велика, что в самой глубине Австралии или Оклахомы нет ни одного человека, умеющего читать, который не знал бы его имени. Эта слава налагает ответственность равного масштаба. Отдает ли он действительно себе отчет в размерах той ответственности, особенно перед молодежью, которая лежит на нем? Перед этой молодежью, потрясенной крушением всего, что ее приучили уважать и чтить… Молодежью, присутствовавшей при поношении ценностей, считавшихся бесспорными, при попрании всех элементарных моральных норм. Ни во что больше не верующей, но алчущей идеала и красоты, как это будет всегда со всеми молодыми в любую эпоху, пока существует жизнь…
Хотите того или нет, Пикассо — одна из очень редких «звезд», прошедшая через грохот разрушений последнего полувека, чья притягивающая сила не переставала расти. Как раз напротив. Для сотни тысяч интеллектуалов, разбросанных по всему миру, его имя сегодня представляет собой не только художественный стиль, но и мировоззрение, духовную или моральную позицию, — позицию, выходящую за пределы искусства, соприкасающуюся с философией и даже политикой. Невероятно, но, если вы поговорите с двадцатилетними, вы увидите, что быть за Пикассо не ограничивается предпочтением кубизма другой школе и живописи Пикассо — творениям любого другого художника. Вы очень быстро поймете, что это за предполагает и другие аспекты позиции по отношению к множеству проблем. Позиции, часто отрицающей и почти всегда расплывчатой, которую ее адептам было бы трудно определить.
В моей молодости нас было несколько десятков людей, любивших картины Боннара, стихи Малларме или балеты Стравинского. Сегодня не тысячи, а миллионы заявят вам, что они обожают Пикассо. Среди них ваш сапожник или господин, который пришел починить умывальник.
Я не вижу в этом подобии религии никакого зла самого по себе. Меня смущает и пугает то, что эти горячие адепты совершенно не знают заветов своего бога, потому что он сам никогда не стремился их определить. Поднимающаяся волна вознесла Пикассо на воображаемую вершину, освещенную светом, преломляющимся сквозь призму с многочисленными гранями, которые позволяют каждому видеть его под тем углом, который сам выбрал.
Однако Пикассо-человек и под этой волной неправдоподобной славы остается таким же уязвимым, как всякий подлинный художник. И это меня глубоко привязывает к нему. Я не поверю, что он никогда не знал сомнений, временами даже отчаяния. Между тем публика бросалась на все, что подписано Пикассо-гением, и никто никогда не уподобился мальчику из сказки Андерсена, который, несмотря на слепой восторг раболепствующей толпы, в своем детском простодушии воскликнул: «Король гол!» Пикассо во многих случаях это знал. Нельзя сделать 365 шедевров за год, а Пикассо случалось писать несколько полотен в день…
Я слишком сильно любила и ценила его неизменные хорошие качества, чтобы оскорбить его, считая, что он сам мог быть полностью удовлетворен некоторыми из своих бесчисленных произведений, за которыми гонялись, как за акциями Суэцкого канала.
Пикассо — человек нежный, чувствительный. Его совершенный вкус близок к чуду. Чтобы судить об этом, посмотрите на дом, который он выбрал на улице Гранд-Огюстэн. Я знаю мало таких прекрасных в своей простоте и благородстве домов.
Но этот человек, чье влияние пережило все потрясения, имеет одну безмерную слабость: ничто в его глазах никогда не стоило того, чтобы перенести пять минут принуждения, усилия и особенно скуки. Его молодость, как и Аполлинера, пришлась на время, когда запросто, с самым серьезным видом говорили: «Левое и правое, добро и зло, черное и белое представляют лишь внешнее различие, чисто условное…» Это время не только оказало на него влияние, но и повлекло по той дороге, которая немедленно привела его к сказочному успеху. Как сердиться на него за это?
Однако, рискуя показаться большей роялисткой, чем сам король, я обязана сказать: «В Пикассо заложено бесконечно больше, чем то, что он создал».
Быть может, я заставлю улыбнуться его ревнителей. «Чего еще требуете вы от человека, возвышающегося над самыми прославленными?» — скажут мне.
Я, знавшая его таким молодым, считаю, что он заслужил много больше, чем его жизнь, какой бы славой она ни была овеяна, но в течение которой, уверена, Пикассо-человек реализовал не все, что нес в себе.