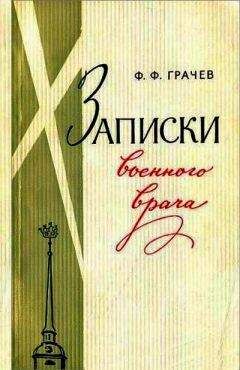Тут я позволю себе нарушить последовательность воспоминаний и рассказать вот о чем. В августе 1945 года я направился в Омскую область за семьей. Доехал благополучно. Но выезд обратно в Ленинград неожиданно осложнился. Мне, военнослужащему, билет дают, семье — нет, семья должна ждать очереди для отправки в эшелоне наравне с другими ленинградцами, ожидающими своей очереди на станции Голышманово.
Ждем трое суток. Никаких сдвигов! А мне надо быть вовремя в госпитале. Что делать? Решаю ехать за сто километров в районный центр — Ишим. Может быть, там удастся достать билеты. Но, увы! Билет дали только для меня.
Вхожу в купе офицерского вагона экспресса Москва — Владивосток. В отчаянии сажусь у окна. Придется возвращаться в Голышманово и снова ждать у моря погоды.
Мои спутники открывают бутылку коньяка. Приглашают — за компанию. Отказываюсь.
— Почему? — спрашивает с удивлением один из них, летчик.
— Не до коньяка…
Излагаю свое горе и вдруг вижу на столике небольшую книжечку — «Ленинград в дни блокады». Автор — А. Фадеев. Торопливо листаю страницы. Натыкаюсь на главу — «Труд милосердия». Бог ты мой! Фадеев поведал о нашей встрече в «Астории»! Не выдержал, громко сказал:
— Грачев — это я!
И сразу же оказался в центре внимания.
— Братцы! — воскликнул летчик. — Надо как-то помочь доктору…
Летчик мгновенно исчез и возвратился с начальником поезда.
Мои спутники объясняют ему, в чем дело.
— Мест нет! — строго говорит начальник поезда.
— Надо найти…
— Повторяю, мест нет!
У открытой двери купе столпились пассажиры.
— Что же ему — бросить семью, а самому уехать?
— Доктор награжден медалью «За оборону Ленинграда»!
— Про него вот в этой книге сказано! — осаждают начальника поезда мои спутники.
— Но ведь не сажать же мне на головы пассажиров? — В голосе уже нет резкости и раздражения.
— А на головы и не надо! — возражает летчик. — Вот я, например, буду спать на багажной полке, а днем — в тесноте, да не в обиде! Одно место есть. Уверен, что еще одно тоже найдется.
Его поддержали:
— Несомненно!
— Какой разговор!..
«Общественное мнение» воздействовало. В Голышманове начальник поезда впустил мою семью в вагон.
— Билеты возьмете в Ялуторовске, — уже мягко сказал он…
Под впечатлением встречи с Фадеевым возвращаюсь в госпиталь. И вновь всматриваюсь в лицо города. Дома испещрены вмятинами от осколков снарядов и бомб. Как будто переболели оспой. А окна многих домов открыты настежь. На подоконниках, балконах — ящики с землей. Ленинградцы выращивают овощи и зелень не только на огородах, в садах и скверах, но и у себя дома.
Работники Эрмитажа — те свой огород возделали даже в Висячем саду, под открытым небом, среди беломраморных статуй. Не на земле, а на втором этаже! Нечто вроде легендарных садов Семирамиды, только там не выращивали картофеля.
В городе настороженная тишина. И если бы не замурованные окна подвалов и нижних этажей с бойницами, не зенитки, стерегущие врага в небе, где на длинных тросах плавно покачиваются аэростаты воздушного заграждения, можно было бы подумать, что течет самая обыкновенная, мирная жизнь и нет врага под стенами любимого города.
На Исаакиевской площади неожиданно услышал позади:
— Грачев!
Обернулся — глазам не верю: Павел Пастерский.
— Паша! Жив!
— И здоров! Старшим механиком на теплоходе «Челюскинец». А ты?
— Все там же. В госпитале.
Павел Теофильевич заметно поправился. Но в уголках глаз — лапки морщин. На висках чуть белеет седина.
— Помнишь железяку? — с радостью спрашивает Пастерский.
— Еще бы! Было времечко!
— А блок-станцию мы тогда все-таки построили! — с удовлетворением произнес Пастерский…
Смотрю вслед коммунисту Павлу Пастерскому и вспоминаю стихи Лебедева-Кумача:
Крепче камня
и прочнее
стали
Ленинградский питерский народ!
Пересекаю площадь Декабристов, миновал обшитый досками памятник Петру Первому.
На набережной Невы стоят с удочками старики и подростки.
Один из стариков дрожащими руками снимал с крючка взъерошенного подлещика граммов на двести-триста.
— Поздравляю вас с добычей, — сказал я.
— Это не добыча, а пища, — хмуро отозвался старик. И добавил — На троих!
В нашем госпитальном «Летнем саду» встретил Ягунова и Луканина.
Из окон госпиталя доносилась знакомая песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Ровно, слаженно звучали голоса.
— Маляры-то наши поют! Пойдемте, товарищи, посмотрим, что у них делается, — предложил Ягунов.
В палате девятого отделения, уже тщательно побеленной, мы увидели на лесах, под самым потолком, врача Гордину и медицинскую сестру Михайлову.
У раскрытого окна палаты в измазанном комбинезоне трудилась врач Романова. Она размешивала кистью краску в ведре.
— Как успехи, Анастасия Михайловна? — спросил Луканин.
— Стараемся, — ответила Романова, вытирая пот со лба. — Еще две палаты осталось…
А в парке соседнего госпиталя дружно поют соловьи. Нежно, страстно, любовно.
Бывая в городе, видишь в полный лист распустившиеся деревья. Исчезли объявления всяческого обмена вещей на продукты. Вместо них — афиши кино, концертов, спектаклей.
Открыты магазины. В киосках можно напиться воды с каким-то непонятным сиропом.
В городе стало больше автомашин. На лицах прохожих еще следы прошедшей голодной зимы, но говор громче, можно даже услышать шутку:
— Ну, дистрофик, пошли дальше!..
Если подобные шутки: «Ну, дистрофик, пошли дальше» — могли возникнуть среди ленинградцев, значит, жизнь изменилась к лучшему. И это было действительно так.
Изменился и облик нашего госпиталя. У нас светло, чисто и уютно. В «Летнем саду» буйно взялись цветы и трава. Вдоль забора раскинулись листья подсолнухов. «Директор» сада политрук Александр Кульков, засучив рукава, копается в большой цветочной клумбе, раскинувшейся пятиконечной звездой.
Желтеют посыпанные песком дорожки сада. В голубом небе легкие облака. Все, как на даче: солнце, воздух, трава, цветы.
Разросся наш «Летний сад», созданный добрыми руками на голом месте. А сейчас на клумбах яркие всполохи желтых, оранжевых, красных цветов. Они растут, набирают силы. «Летний сад» привлекает немало легкораненых и больных. Здесь они охотно проводят время. И наша стенгазета «За Родину» заполнена их заметками, посвященными этому саду.