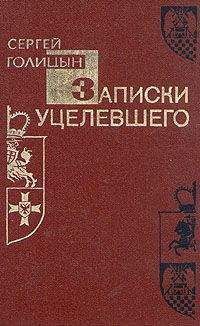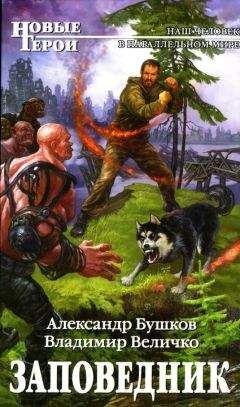Сергей Трубецкой сидел в это время в тюрьме. Прямо из камеры его отправили за границу вместе с матерью Верой Александровной и юной сестрой Софьей. Их высылка производилась спешно. Куда девать вещи? Мои родители согласились принять на хранение всю мебель — очень хорошую, библиотеку очень ценную и несколько сундуков. Что находилось в сундуках, мы не знали, но приняли их вместе с ключами.
Библиотека была обширная, книги в хороших переплетах — издание многих классиков, полное собрание сочинений Герцена, изданное за границей, много трудов тех философов, которые сейчас в советских энциклопедиях именуются идеалистами, был и «Капитал» Карла Маркса, были книги с дарственными надписями, например, сочинения Владимира Соловьева, Сергея Николаевича Трубецкого и других философов начала века. Теперь тем книгам цены бы не было.
После размещения мебели мой отец, брат Владимир и я отправились на Покровку, 38, в родовой голицынский дом и забрали оттуда многочисленные портреты предков и царей — масляными красками и акварелью XVIII и начала XIX веков, вывезенные в 1917 году дядей Александром Владимировичем из Петровского и хранившиеся в течение пяти лет в чулане у бывшего голицынского управляющего Корнеева. Наняли ломовика, погрузили навалом портреты на телегу, увязали веревками. Владимир и я сели сзади, и мы покатили через всю Москву.
Привезли груз в нашу новую квартиру, Владимир принялся развешивать портреты по стенам двух лучших комнат. С тех пор суровые глаза наших предков в течение десятков лет являлись молчаливыми свидетелями многих событий радостных и печальных, происходивших в семьях их потомков. Они переселялись с нашей семьей десять раз, видели шесть обысков и арестов, одну смерть, шесть свадеб, несколько крестин, бесчисленное количество балов, празднований дней рождений и именин, а также просто выпиваний…
Учреждение, в которое поступил мой отец, называлось Москуст. Куст — это объединение нескольких предприятий различного профиля. В данном случае под эгидой одной администрации были объединены две московские обувные фабрики, две московские текстильные, два брянских стекольных завода, тверской кожевенный, владимирский металлургический и еще какие-то.
Правительство искало способы, как лучше в условиях нэпа управлять национализированной промышленностью, лишенной изворотливости частной инициативы. Кусты являлись изобретением самого товарища Троцкого. Москуст находился под его особым покровительством, и потому это искусственное объединение различных предприятий казалось весьма удачным и перспективным.
Во главе куста встал Колегаев — бывший видный левый эсер и первый нарком земледелия, перешедший в Коммунистическую партию. Сам товарищ Троцкий ему покровительствовал и однажды даже удостоил своим посещением особняк Москуста.
К сожалению, слово «товарищ» после революции утратило свой первоначальный благородный смысл, наоборот, к нему стали приставлять явно агрессивные глаголы: "товарищи ограбили", "товарищи выселили", "товарищи арестовали" и т. д. И обязательно в печати, в речах, в докладах всех вождей называли этим опошленным, полинялым словом.
А среди наших знакомых постоянно произносились иные слова — «господин», "госпожа", «господа». Помню, как я был горд, когда в одном доме открывший мне дверь мальчик побежал к отцу со словами: "Тебя какой-то господин спрашивает".
Отец мой в том кусте занял должность экономиста-плановика". Работа его увлекла, он выезжал в командировки в Брянск, не только выполнял обязанности со свойственной ему аккуратностью и добросовестностью, но и проявлял инициативу, несколько раз предупреждал, как избежать убытков, как получить дополнительную прибыль.
И начальство его ценило и уважало, но денег платило мало. Вернее, в абсолютных цифрах выходило астрономически много, с каждым месяцем отец получал все больше и больше миллионов, потом миллиардов рублей. Но иждивенцев у него было свыше десяти человек, а эти миллиарды стоили копейки. И потому у нас был введен строжайший режим экономии на еде, на одежде, на транспорте, на дровах.
Из Богородицка приехали дедушка, бабушка, тетя Саша, Нясенька, няня Буша, Лёна, мои младшие сестры Маша и Катя. С собой они привезли много продуктов — мешок пшена и две четверти конопляного масла, которые в Богородицке стоили дешевле, а также тыкву и картошку с нашего участка и трупы наших кур. С болью в сердце я потрогал острие шпор обезглавленного рыцаря петуха Жоржа. Съели мы наших протухающих былых кормильцев за несколько дней, и с тех пор я несколько лет не пробовал курятины.
Отцовой зарплаты не хватало. Мы питались хлебом только черным, чай покупали морковный, ни белого хлеба, ни сливочного масла не ели, сахару давали каждому по кусочку за один прием — только вприкуску, для супа покупали самые дешевые кости, на второе варили картошку в мундире либо жидкую пшенную кашу, в которую разрешалось лить лишь по ложечке конопляного постного масла. Сестра Лина ежемесячно приносила аровские посылки, но содержание их значительно ухудшилось: вместо бекона давали какой-то растительный жир вроде стеарина, вместо риса — молотую кукурузу, вместо густых, как мед, молочных консервов — жидкость белого цвета.
В гимназию мне давали на завтрак два куска черного хлеба и пару вареных картошин; на трамвай деньги давались в исключительных случаях; в церкви на тарелочку разрешалось класть минимальное количество денег, горсть тощих миллионов.
Нашу кассу держала тетя Саша и записывала все расходы. Счетные книги изредка проверял мой отец и всегда хмурился.
Материя для одежды доставалась со скидкой с текстильных фабрик Москуста. Была она белая, сами ее красили в тазах, и весьма неумело, поэтому платье и юбки выходили окрашенными неровно, а шила платья одна дешевая портниха.
Сейчас родители стараются одеть и обуть своих детей как можно наряднее, а тогда дети, и не только в нашей семье, ходили в чем попало. Так, сестра Катя щеголяла в подшитых валенках с носками, загнутыми кверху, на манер коньков. Я носил бальные туфельки, приобретенные на обувной фабрике Москуста с большой скидкой, и синюю курточку с медными пуговицами, которая мне досталась от Алексея Бобринского; за три года я безнадежно из нее вырос. Белья у меня вообще не было, а курточка и брюки — старые гимназические Владимира — надевались прямо на голое тело и кололи меня. С этими брюками произошла ужасная история.
Однажды на большой перемене, когда все с криками без толку носились по залу, один из старших учеников схватил меня сзади за брюки. Гнилая материя затрещала, и в его руках оказался клок тряпки. Девчонки завизжали, увидев нечто круглое и розовое, а я помчался стремглав в уборную. Там меня окружили сочувствующие одноклассники и кое-как закололи английскими булавками дыру. В чужом длинном пальто, пропустив два последних урока, я побежал домой. Я бежал, а мне казалось, что все встречные с удивлением смотрят на взъерошенного мальчика с искаженным от стыда лицом. Вечером мать наложила на мои брюки большую квадратную заплату более темного цвета, а я готовил уроки, закутавшись в одеяло.