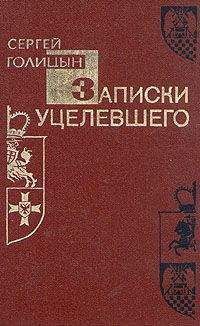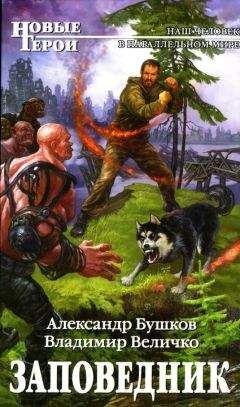С наступлением холодов пришлось сбросить бальные туфельки и надеть на голые ноги огромные подшитые валенки с несколькими разноцветными заплатками. Валенки эти приносили мне много унижений. Когда я приходил в гимназию, требовалось тщательно вытирать подошвы. Те, у кого были калоши, быстро снимали их, вешали пальто и тотчас же взбегали вверх по лестнице. А те, кто носил валенки или сапоги, терли, терли подошвы о специальный коврик. А в начале лестницы стояло двое неумолимых дежурных, заставляя проводить ногой по куску линолеума, и если обнаруживалась сырость, возвращали несчастного еще и еще тереть, пока не раздавался звонок. Я утешал себя тем, что в параллельном классе был мальчик, носивший валенки еще более страшные, чем у меня, и потому застревавший перед лестницей и дольше меня. И еще я утешался, что в моем классе сын истопника гимназии Шура Каринский одевался хуже меня.
Юша Самарин подарил мне свою старую гимназическую шинель, а вместо форменной фуражки — громадный темно-синий французский блин с красным помпоном наверху. Помпон этот я тотчас же оторвал, но все равно вид у меня, да еще в огромных валенках, даже для того времени был нелепый. К тому же иные прохожие усматривали во мне классового врага, дергали меня за блин и за шинель и кричали: "Недобитый барчук" или «Карандаш». До революции карандашами называли гимназистов за их узкие внизу шинели. Это прозвище мне казалось очень обидным.
И еще я обижался из-за сшитого матерью холщового, с синей каемкой, мешка, в котором носил учебники. Мои одноклассники говорили, что я его стащил из уборной. Однажды я попытался умолить мать купить мне ранец, она с дрожью в голосе ответила, что купит, но тогда два дня мы не будем обедать.
А вот из-за чего я совсем не обижался, так это из-за своего прозвища. Все учителя и все ученики имели прозвища, и на всех на них наши доморощенные художники рисовали карикатуры мелом на доске, на бумажках, в специальных альбомах. И прозвища эти — добродушные, без насмешки — либо относились к характерной черте лица или фигуры, либо к происшествию, случившемуся с данным учеником.
Меня называли Князем и рисовали в короне сидящим на ночном горшке, вытянув длинные ноги. А впрочем, кроме меня были в гимназии еще титулованные: граф Ростопчин, князь Кропоткин, князь Гедройц. Таким образом, в гимназии я не чувствовал себя белой вороной из-за своего происхождения.
А плохая одежда угнетала меня ужасно. Уже в восьмом классе как-то окружили меня мальчики и начали говорить, правда, достаточно деликатно, чтобы я убедил своих родителей купить мне одежду получше: вот и девчонки морщатся, глядя на меня. Да, Шура Каринский хуже меня одевается, но его отец пьяница, зарабатывает мало. Мне было очень горько слушать сочувственные речи, но я молчал.
Об этом разговоре я рассказал родителям. Мать продала серебряные ложки, а мне купили более или менее приличный френч, брюки, пальто. С того дня для сохранения складок на брюках я каждый вечер клал их себе под матрас.
В квартире, кроме нас, одну комнату занимала почтенная вдова, бывшая каширская помещица — Бабынина Елизавета Александровна. С первых же дней она близко сошлась со всеми нами, по вечерам приходила пить чай со своим сахаром и вела нескончаемые беседы о добром старом времени с бабушкой, с дедушкой и их гостями, которые являлись почти ежедневно. С нею я очень подружился и за небольшую плату — три миллиона рублей мешок — носил ей из сарая дрова, а иногда читал вслух стихи символистов.
Самовар ставила няня Буша, и по рассеянности иногда без воды, отчего он несколько раз распаивался. На ее обязанности было жарить и молоть для кофе рожь, но она, поставив противень на плиту, забывала его, и тогда ужасный чад распространялся по всей квартире.
Дни рождений и именин у нас неизменно соблюдались, иногда звали гостей. И всегда няня Буша пекла пирог из размоченного черного хлеба с изюмом, называвшийся «шарлоткой». Дня за два до торжества она подходила к матери и с дрожью в голосе просила дать указание тете Саше выдать из семейной кассы денег на покупку фунтика изюма и полфунтика сахарного песку. Эта шарлотка нам казалась божественно вкусной.
Года через три с очередным распаянным самоваром произошла неприятная история: мой отец, обычно сдержанный, повысив голос, начал упрекать няню Бушу, она расплакалась, начала говорить: "Я вам в тягость", — и выхлопотала место в богадельне. Мой отец просил у нее прощения, мы все умоляли ее остаться, были очень расстроены. Она все равно от нас ушла. Когда в 1928 году она скончалась, мы всей семьей ее хоронили.
Гости были все те же, кто "во времена деспотизма" являлся к нам на Георгиевский, — старички и старушки, но они поблекли, высохли, и мех на их шубах облез. Назову некоторых из них:
Князь Волхонский, однокашник дедушки по университету, преподавал химию в бывшей мужской Флёровской гимназии в Мерзляковском переулке. Он всю жизнь был простым учителем. Дедушка его очень любил, и они могли часами беседовать между собой. А в роно спохватились: "В советской школе учитель — князь!" Вызвали его, кто-то сочувствующий спросил, не родственник ли он декабристу? Ему бы ответить: "Да, родственник, он четвероюродный брат моего деда". И злополучный учитель был бы спасен. А он брякнул: "Я совсем из другой ветви". И прогнали беднягу, прослужившего учителем чуть ли не пятьдесят лет. В 1930 году он умер, наверное, просто от голода.
Петр Петрович Кончаловский — известный художник. Крупная фигура, широкоплечий, улыбающийся. Он приходил к нам один, без жены, жизнерадостный, шумный, остроумный. Бабушка тогда садилась за рояль, и он пел неаполитанские песенки, арии на итальянском языке, а слушатели — старые и молодые наслаждались.
Елена Сергеевна Петухова — вдова купца, владельца магазинов готового платья, ее называли "замоскворецкой Семирамидой". Она и в старости была поразительно красива, величественна, жила в Малом Екатерининском переулке между Ордынкой и Полянкой в собственном доме, имела четырех замужних дочерей и сына холостяка, была остроумной собеседницей. Когда к нам приходила, приносила дедушке и бабушке гостинцы — конфеты и варенье. О ней и о ее потомках я мог бы много рассказать, так своеобразны и колоритны были все они. Отмечу только, что все четыре ее зятя — трое из старых купеческих фамилий — Ноев, Вишняков и Свешников, а четвертый — бывший гвардейский офицер Вульферт — погибли в лагерях. А ее сын Николай Григорьевич до конца жизни был домовладельцем, что кроме хлопот и убытков ему ничего не приносило. Уже после войны он приютил известного коллекционера картин и фарфора Вишневского. Теперь в этом доме музей имени Тропинина. О плодотворной роли Петухова в создании этого музея искусствоведы молчат.