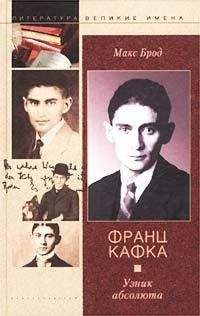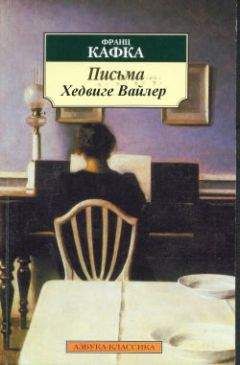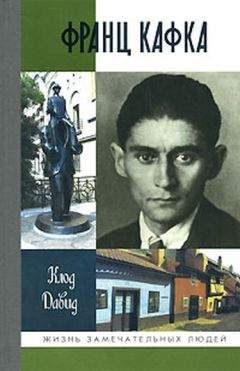Негативные аспекты еврейского вопроса, беззащитность евреев показаны также в новелле «Певица Жозефина, или Мышиный народ» – последнем завершенном произведении Кафки, которое он предназначил для опубликования. К каким конкретно людям относилась картина затравленной, беспомощной мышиной массы – сказать со всей определенностью трудно. Безмерное тщеславие литератора, «звезды», лидирующей личности, которая желает утвердить себя в глубине страдающего народа, – таков иронический портрет главного героя, полагающего, будто мир ждет его одного, его спасительного слова, которое только он и может произнести. Этот портрет с прискорбием относится также к общему как для еврейского сообщества, так и для еврейской литературы явлению – к человеку, который думает, что избран он один, с насмешливым превосходством отвергает или просто не замечает того, что советуют, делают или говорят другие. (Сам Кафка был полной противоположностью своему персонажу, он был скромным и смиренным человеком, не имевшим ни малейших «замашек спасителя». И он, я так думаю, продвинулся на этом пути далеко вперед. Остается открытым вопрос, насколько неблагоприятные условия жизни определили его пониженную самооценку и поднялся бы ли он в противном случае до высот великого религиозного пророка.) Не разуверяйте меня! Положение беспомощной мыши сродни слабости человечества в битве против демонов зла. Тщеславные пророки имеются и среди других народов. И только в отношении евреев – в сравнении их беззащитного положения с позицией безответственности, бессовестности «известных людей» – дается наиболее отточенный портрет в миниатюре, символ общего страдания человечества, представленный в форме карикатуры.
В «Жозефине», однако, обозначен путь, ведущий к позитивному решению, и мне кажется, не случайно мысль об этом возникла в последней работе Кафки. Жозефина, певица, не повинуется людям и прячется от них, а те в свою очередь очень тепло восхищаются ее искусством, считают его совершенно необходимым. Далее в истории говорится: «Но люди спокойно, без выражения какого-либо разочарования, властно, полагаясь на свое множество, даже если их наружность и говорила против них, могли только делать подарки и никогда не получали их, даже от Жозефины, шедшей своим путем. Для Жозефины, однако, была лишь дорога, ведущая вниз. Наступил день, когда раздался ее последний писк, и больше его никто никогда не слышал. Она была маленьким эпизодом в истории нашего народа, и люди переживут эту потерю». Звучит настоятельное требование, чтобы индивидуум активно участвовал в судьбе своего народа, инкорпорировался в жизнь людей. Читатель этой биографии найдет достаточно оснований для того, чтобы увидеть, как Кафка, в своей специфической еврейской манере, пытается найти связь с людьми. В последней главе об этом также сказано. Конечно, Кафка не верил, что для установления этой связи было бы достаточно перемены географического адреса. Кроме того, требовались перемены в сердце. И то и другое должно было изменяться, и то и другое было необходимо. Приведение в порядок своей души было так же необходимо, как нормализация условий окружающей жизни.
Теперь каждый может спросить, почему Кафка выражал эту мысль только в своем дневнике и в письмах, и никогда – в литературных работах, почему, как писатель, он раскрывал себя лишь в аллегориях или символах, иносказательным образом?
Во-первых, следует признать, что мышление Кафки было образным, оно не состояло из рассуждений – в этом была его особенность. Образы превалировали даже в разговорах и спорах. И в его дневнике были невыразимо прекрасные лирические фрагменты: «Мечты плывут, поднимаются по реке, по лестнице взбираются на набережную. Надо остановиться, поговорить с ними, они знают так много, только откуда они пришли – не знают… Почему вы поднимаете руки, вместо того чтобы заключить нас в объятия?»
Однако не следует путать «аллегорию» и «символ». Кафка никогда не был «аллегоричным», но он был «символичным» в высшем понимании этого слова. Аллегория создается для того, чтобы сказать «что-то еще» для чего-то. Это «что-то еще» само по себе не представляет большого значения. Якорь, который брошен для надежности, не интересует нас как собственно якорь. Нас не волнует его цвет, форма или размер. Потому что, подобно иероглифу, он ясно, четко и определенно обозначает «Надежду». «Оловянный солдатик» Андерсена, который олицетворяет доброе, терпеливое, любящее сердце и многое другое, будет существовать вечно, он тронул наши сердца историей своей короткой жизни. Оловянный солдатик – это не аллегория, это символ. Символ имеет две стороны. Одна существует в нашем воображении, как предположение, другая – объективная, реальная. Символ объединяет их особым образом – кидает навстречу друг другу, смешивая одну с другой. И таким образом – чем глубже вникаешь в подробности жизни оловянного солдатика, тем яснее видишь универсальное бытие. Маркиз О., занимающийся проблемами доверия между родителями и детьми, поднялся выше и поставил вопрос о вере в целом, вере в мировой порядок. Почему же тогда автор не мог прямо выразить свое понятие универсальности, которое он хотел выразить? Потому что о нем нельзя высказаться до конца, потому что оно простирается в бесконечность. И только в особых случаях автор показывает отправную точку для ухода в бесконечность. Аллегория создается иным путем, она обозначает предел бесконечности, играет с ней, будто с игрушкой, – и это знак утомленной души. Символ, со своей стороны, – это горящий порыв души, выражение мощи. Они дозволяют человеку послать луч в бесконечность – и в то же время (согласно точке зрения, что каждый может получить кусочек этого лучика) пославший его обретает связь с другой личностью, другими людьми, со всем человечеством. И все это выражается одновременно – в одних и тех же словах, в одной-единственной ситуации.
За всеми сценами, описываемыми Кафкой, открывается бесконечная перспектива. Но сами сцены состоят из простого повествования, наполненного сияющими лучами, любовью к природе и верой в нее, и это превосходное описание, кажется, не имеет конца. У Кафки можно встретить и сцены из канцелярской жизни, которые были столь хорошо знакомы писателю, или сцены противостояния чиновников в «Процессе». Только человек, который любил жизнь во всей ее глубине, мог так писать. У него нет ни одного слова, которое не добавляло бы новую краску или не имело бы никакого смысла. Мастерство стиля Кафки – не простой эстетизм, это моральное явление, возникшее в результате особой честности автора. Это само по себе было бы значительным феноменом, даже если бы речь шла только о простом реалистическом изображении. Но события, описываемые им, относятся не только к личности автора. Каждая деталь излучает свет, указывающий на вечное, трансцендентальное, на идеальный мир. В любом великом произведении искусства можно найти вечный свет, струящийся сквозь тленные формы. Художественные приемы Кафки, однако, не превратились в формальные принципы: в его работах очень трудно отделить содержание от формы, настолько тесно они сплетены.