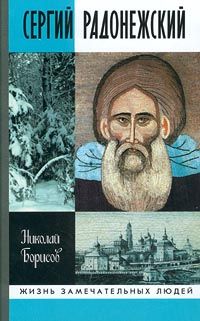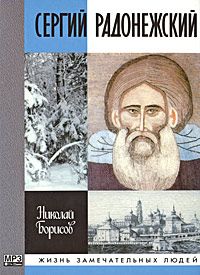— А пошли бы вы со своими обычаями и договорами куда подальше! Из Гриня знатный резчик и печатник выйдет! Не моему Ваньке чета! Ты погляди, погляди, как паренек режет! Это в пятнадцать годов!
— Да закон…
— Грабительский у вас тут закон! Знать его не желаю!
Петр Тимофеев пожал плечами и умолк, замкнулся, а Федоров еще долго не мог успокоиться, ворчал, осуждая порядки цеховых ремесленников.
Так и спать легли, недовольные друг другом.
***
12 августа 1569 года знаменитый Люблинский сейм, тянувшийся с 10 января, закончился.
Польская знать и шляхта, поддержанная католической церковью и литовскими шляхтичами, добилась своей давней мечты.
Независимое Великое княжество литовское, чьи плодородные и малозаселенные южные земли властно тянули к себе польских землевладельцев, перестало существовать.
Вместо Польши и Литвы возникло единое государство — Речь Посполитая, с единым великим сеймом, одним сенатом и единой монетой.
Польша ликовала. Из уст в уста передавались слова, якобы сказанные королю Сигизмунду-Августу канцлером Иваном Тарло:
— Наконец-то! Это счастливейший день в жизни каждого из нас, ваше величество! Дольше медлить было нельзя. Ведь костел во имя всех святых редко имеет свинцовую крышу!
Король соизволил милостиво улыбнуться. Впрочем, говорили, что сам стареющий Сигизмунд-Август остался не очень доволен сеймом. Сенаторы не сложили с короля долг государству, отказались определить обеспечение его детей и принудили платить кварту, как простого землевладельца.
Сенат мало волновало самочувствие короля. Зато литовская знать воспрянула духом. Скрепя сердце присягая на верность Речи Посполитой, литовские чины рассчитывали теперь, что используют обиду обобранного поляками Сигизмунда-Августа и завоюют первенствующее положение в новом государстве. Эта надежда несколько смягчала горечь капитуляции, позволяла оправдать ее в собственных глазах.
— Покорностью королю мы упрочили свое положение! — сказал друзьям князь Константин Острожский. — Король наш друг. Пусть католики не радуются раньше времени. Прийдет час, и мы возьмем всю власть в королевстве!
Но не все магнаты Литвы думали так, как князь Острожский. Гетман Ходкевич, во всяком случае, думал иначе. Он понимал, что игра проиграна, и проиграна окончательно.
Глубокое уныние охватило старика. Он не остался на пиршество и охоту, устраиваемые в честь унии, распорядился закладывать лошадей, и уже 13 августа, на другой день после закрытия сейма, выехал из Люблина в родной Заблудов.
Путь лежал через Полесье. За оконцем колымаги тянулись скудные пажити, нищие деревеньки с общипанными соломенными крышами.
Но вековечные дубравы веяли прохладой и под жарким августовским солнцем. Стремительный широкий Неман сверкал рыбьей чешуей серебряных бликов, черепичные крыши фольварков и господских домов ярко алели в густой зелени садов, и старый гетман нет-нет да и поднимал руку, чтобы утереть набежавшую в уголок глаза непрошеную слезу.
Не доезжая Новогрудка, гетман почувствовал себя плохо и распорядился заночевать в попавшейся на пути деревне.
Старый поп суетился, не зная, как принять столь знатного гостя. Но Ходкевич с горькой усмешкой отверг любезности попа.
— Время неги и удовольствий минуло! — сказал он одеревеневшим от почтения хозяевам. К тому же я старый солдат… Постелите мне на сеновале!
Распоряжение гетмана выполнить было трудновато. Старое сено кончилось, новое поп еще не убрал. Однако возражать Ходкевичу не посмели. Кое-как наскребли с десяток копенок по всей деревне, сволокли в поповский сарай, сложили, покрыли коврами, бросили в изголовье шелковые гетманские подушки, а попадья все-таки принесла свежие простыни и покрывало.
Лежа в пахучей темноте, гетман слушал, как жует и вздыхает поповская корова.
Ах, ведь и это была его родная Литва!
Близко к полуночи за стеной сеновала послышались голоса. Гетман прислушался. Говорили мужчины, и говорили с той певучестью, какой всегда отличалась речь полету ков.
Гетман умилился. Он напряг слух.
— А таки продали нас магнаты полякам, Гнат! — молвил сдерживаемый тенорок.
— А таки продали, брат! — отозвался мягкий бас. — Всё продали: и нас и веру христианскую продали.
— Что же теперь буде? Мало свои паны измывались над землянами, теперь католики придут! Сейчас как в аду живем, а тогда и вовсе ноги протянем!
— Кто протяне, а кто прочь потяне… А то, даст бог, и напомним панам, как наши отцы их батек на Жмуди чествовали дубьем и вилами!
Гетман рывком сел на коврах.
— Гей! Холопы! Сюда!
Сбежались слуги, принесли свет.
— Сыскать богохульников, сыскать бунтарей! — брызжа слюной, кипел Ходкевич. — На кол собачьих детей! Проклятая рвань! Отчизна гибнет, а подлое племя рычит! Вырву, вырву клыки шелудивым псам!
Слуги переполошили всю деревню, приволокли на поповский двор два десятка угрюмых, всклокоченных, ничего не понимающих мужиков.
Однако бунтарей не нашли.
***
Иван Федоров и Петр Тимофеев растерянно переглянулись. Федоров развел руками.
— Как же это, пан гетман? Закрыть печатню сейчас… Мы и новые доски начали, и бумага куплена…
Они стояли в большом светлом зале заблудовского дома Ходкевичей. Тяжелые бархатные занавеси были отодвинуты. Свободно льющийся в отворенные окна свет сиял в навощенном полу, в полировке резных дубовых панелей, в золоченых рамах картин.
— Это невозможно, пан гетман! — твердо сказал Федоров. Позвольте нам хотя бы допечатать начатые книги.
— Пусть будет так, — наклонил голову Ходкевич. — Пусть они станут моим надгробием… Но новых шрифтов не начинайте, досок не режьте. Я тяжко болен. Мне уже не под силу ни новые расходы, ни труды… Я хотел только, чтобы вы знали, что свободны, и могли сами решать, как быть дальше.
Старый дворецкий проводил печатников к выходу, низко поклонился им в спину.
Федоров дал себе волю:
— Предательство совершается, Петр! Гетман не как православный князь, а как мытарь жалкий поступает! Не успели унию заключить, и он уже остарел! Эх! Ему бог поле для подвига уготовил, а он…
— Теперь нам один путь к Мамоничам. Просить надо, чтобы взяли обоих… — выговорил, наконец, Тимофеев.
— Возьмут ли еще!.. Может, теперь и они напугаются? Да и не хочу более кланяться, милости ждать!.. Уже под пятый десяток мне, Петр! Из них без малого тридцать лет печатным книгам отдано, служению вере! Скольким пожертвовал ради просвещения народа, и теперь просить, чтобы купцы сердобольные приютили? Опять из чужих рук глядеть?