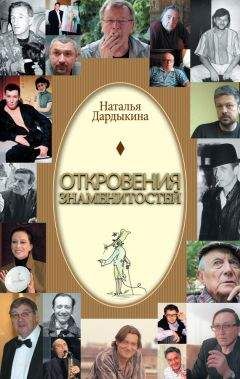На «Ленфильме» появились и режиссеры-дебютанты. Это были приглашенные новым директором Киселевым местные театральные режиссеры — Киселев пришел на студию из театральной среды. Никто звать меня на «Ленфильм», конечно, не собирался. Более того, чем лучше шли мои дела в неигровом кино, тем меньше у меня оставалось шансов попасть в кино художественное. Здесь меня уже определили в хроникеры, а хроникерам в храме киноискусства — не место!
Но тут вмешался господин Случай. Я уже упоминал об операторе фильма «Чапаев» Александре Ивановиче Сигаеве. Все его величали Сигай. И действительно, он обладал способностью сигать сломя голову во все конфликты и споры, если ему казалось, что кто-то обижен. Он был правдолюбцем по содержанию и матерщинником по форме. Никто не знал, когда именно и что именно Сигай сочтет несправедливостью. Он не признавал никаких авторитетов, резал правду-матку, а ленфильмовских классиков Хейфица и Козинцева называл Оська и Гришка. За эту его, мягко говоря, неуравновешенность его и выжили с «Ленфильма» — не помогла даже чапаевская слава. Меня он окликал не по имени, а просто кричал «эй, ты!».
— Эй, ты! — крикнул мне однажды Сигай на весь просмотровый зал в Доме кино. — А ну, поди сюда!
Я, конечно, поспешил за скандалистом. Сигай крепко взял меня за руку и куда-то повел. Привел он меня в комнату, где сидел седовласый, вальяжный человек.
— Слышь, Оська! — обратился к нему Сигай. — Ты картину начинаешь — возьми к себе вот его, — Сигай ткнул в меня пальцем.
Я поздоровался и назвался. Видимо, чтобы не связываться с Сигаем, вальяжный человек (это был Хейфиц) стал меня расспрашивать о себе. Я рассказал. Хейфиц поблагодарил и собрался было уходить.
— Оська! — строго крикнул Сигай. — Скажи, когда ему приходить!
— Ну, — вяло пообещал Хейфиц, — пожалуй, через недельку и ролик свой захватите.
Что Хейфиц называл роликом, я не понял. На всякий случай, я взял с собой короткометражный фильм, который назывался «Рождение картины». Как известно, в Третьяковке хранится множество подготовительных этюдов к суриковской «Боярыне Морозовой». Кроме того, несколько малоизвестных эскизов сохранилось в провинциальных музеях. Я знал, что в семье Михалковых-Кончаловских есть альбом Сурикова, уцелевший еще со времен его путешествия в Италию. Там, среди итальянских зарисовок, есть и первые «почеркушки», касающиеся «Боярыни Морозовой». Мне показалось, что если выстроить весь этот материал в хронологической последовательности и снабдить его соответствующим комментарием, может получиться любопытная картина.
Я пришел к Наталье Петровне Кончаловской, чтобы испросить разрешение на съемку альбома и вообще посоветоваться. В разгар беседы появился длинный подросток в серой школьной форме, когда-то купленной на вырост.
— Ма, — сказал подросток ломающимся баском, — дай полтинник!
Подросток откликался на имя Никита. Наталья Петровна мысль о фильме тогда одобрила. Вот с этим-то двадцатиминутным фильмом я и пришел к Хейфицу. В просмотровом зале я увидел знакомых вгиковцев. Это были художники Исаак Каплан, Белла Маневич и оператор Маранджян. Они уже приглашены были в группу для работы над новым фильмом Хейфица «День счастья». Все вместе мы посмотрели мою картинку.
— Смотрится, как сюжетное кино, — с некоторым удивлением сказал Хейфиц, — вы приходите еще через недельку — что-нибудь решим.
Через недельку, не без психологической обработки со стороны моих вгиковских приятелей, Хейфиц пригласил меня на картину в качестве второго режиссера.
Я хорошо знал, что второй режиссер в игровом кино — это чисто административная должность. Второй режиссер — своего рода посредник между производственной и творческой половинками съемочной группы. Функции его постоянно меняются на разных этапах кинопроизводства. В подготовительном периоде — он плановик и проектировщик. На этапе кинопроб он превращается в сыщика-дознавателя, дипломата и координатора одновременно, так как в это время идет поиск исполнителей и формируется актерский ансамбль. О съемочном периоде я уж и не говорю. Во время съемок второй — царь и бог, но одновременно, он и «прислуга за все», и мальчик для битья. Во всех просчетах, ошибках и неудачах традиционно считается виноватым второй режиссер.
«В какой мере я смогу проявить себя на "Ленфильме" как второй режиссер?» — спрашивал я себя. Ответ мне был
ясен — ни в какой! Во-первых, я уже привык самостоятельно принимать решения и руководствоваться собственными представлениями о хорошем и плохом. Преодолеть этот психологический барьер очень трудно. Во-вторых, я плохо знал актерский рынок и закулисье. И, в-третьих, я совсем не знал цехов и цеховых работников на «Ленфильме», а если ты не знаешь плотников, осветителей, маляров в лицо и по имени-отчеству, то дело твое безнадежное.
Однако соблазн поработать с таким мастером, как Хейфиц, был велик. Я решил пойти на «Ленфильм», но только на картину к Хейфицу, не связывая себя постоянной работой в штате студии. «А дальше видно будет, — думал я, —тылы в неигровом кино у меня обеспечены».
Первый дискомфорт я почувствовал, когда прочитал сценарий. Благополучная, обожаемая мужем женщина рвется из семейного мирка в большой мир созидателей, строителей и т. д. Муж ее — геолог — как раз и живет в этом большом мире, но жену заботливо оберегает от него. Жена огорчается, отношения охлаждаются. Жена случайно знакомится с врачом скорой помощи — обаятельным представителем «большого мира». Раздираемая противоречиями женщина уезжает в деревню учительствовать. В сценарии было много симпатичных подробностей и типично хейфицевских деталей, но общее ощущение какой-то неловкости сохранялось. Слишком хорошо мы знали наш послевоенный мир вдов и сирот, мир одиноких женщин, лишенных любви и заботы, чтобы проникнуться сочувствием к героине. Неприятности меня ожидали совсем не там, где я предполагал.
Чисто организационные сложности мне как-то удавалось преодолевать при поддержке профессионалов высокого класса — главных художников и оператора, но стали сказываться сценарные неясности и несогласия между автором Юрием Германом и постановщиком Хейфицем. Сцены переписывали прямо на съемочной площадке, постоянно менялись и места съемки. Такие замены приводили к частым простоям и неразберихе. Директор картины все это сваливал, конечно же, на второго режиссера. Алексей Баталов, игравший главного героя-врача, будучи деликатным человеком, в прямые споры с постановщиком не вступал, но я вынужден был как-то реагировать на его возражения и сомнения. Реагировать и маневрировать.
Закончилось все это совершенно неожиданно. Хейфиц простудился и заболел, а мне после съемок поручил провести речевое озвучание. Именно на этом этапе, обычно, и уточняют сценарные невнятицы, мотивировки и противоречия. Здесь есть еще возможность отчасти смягчить актерские просчеты. Словом, именно на этом этапе окончательно редактируется картина. Почему Хейфиц доверил мне такую важную работу, я понял значительно позже, когда монтировал свой первый большой фильм. На этом этапе режиссеру, перешагнувшему, наконец, через все сложности, случайности и тяготы съемок, каждый эпизод, каждая клеточка-кадрик кажутся самыми важными и необходимыми. Мало кто решается недрогнувшей рукой изымать созданные тяжким трудом эпизоды. Их качество и значимость режиссер невольно измеряет количеством затраченного труда и волнений. Это естественный самообман. Во многих странах важной монтажно-редакторской работой занимается профессионал-монтажер. У нас своя традиция — у нас постановщик — единовластный хозяин отснятого материала. Во всяком случае, так было долгое время. В данном запутанном случае Хейфицу важно было сохранить «свежий глаз», оказаться над схваткой. При этом постановщик мог в любой момент поправить новичка и даже отстранить его. Мои неудачные, ошибочные действия для меня, хроникера и чужака, могли иметь тяжелые последствия в будущем. Но, все равно, я был глубоко благодарен Хейфицу за возможность «порулить», которую он мне тогда предоставил.