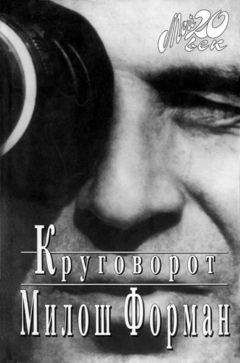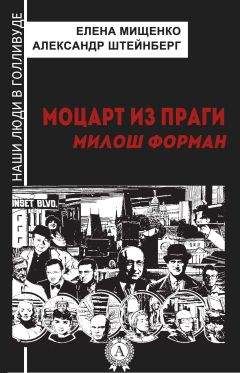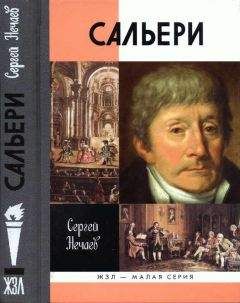Наш проводник задул свечу и предложил нам тоже сесть на коробки. Остальные едва взглянули в нашу сторону и продолжали петь протяжные песни, в которых звучала вся печаль России. Балалаечник почти не открывал глаза.
Мы сели. Бородатые мужчины продолжали петь. Время от времени они пускали по кругу бутылку водки, и мы тоже отпивали по глотку. Никто не произнес ни слова. Русские тянули свою бесконечную мелодию. Через полтора часа наша переводчица встала.
— Ладно. Теперь нам пора, — сказала она.
Наши русские почитатели так и не перестали петь. Нам даже не удалось попрощаться.
Память часто предает нас, но я очень хорошо запомнил этот вечер: что-то в глубине моей души откликнулось на все происшедшее. Наверное, дело было в том, что я почувствовал себя чужим этим людям, что я опять не смог пересечь границу закрытого мира, в который меня обещали впустить.
Может быть, этот вечер воскресил во мне переживания десятилетнего мальчика, у которого никогда не было времени прижиться где-то, который постоянно осознавал себя отторгнутым от эмоциональной общности чужой семьи. Это ощущение, будто ты стоишь возле стеклянного дома и видишь все, что происходит внутри, но не становишься действующим лицом этих событий, а остаешься сторонним наблюдателем. Может быть, это ощущение никогда не забывается, может быть, его нельзя забыть, может быть, оно все еще отзывается во мне, может быть, оно так и будет отзываться, потому что во всех своих фильмах я вижу отверженных, и я знаю, что они чувствуют, пытаясь пробиться через непроницаемую стену чужих эмоций.
Я вижу блондинку, лежащую на кушетке в доме пианиста и прислушивающуюся к голосам хозяев, — они ссорятся из-за нее, а ей больше некуда пойти. Я вижу Макмерфи, притворяющегося душевнобольным в психиатрической лечебнице, в «Пролетая над гнездом кукушки». Я вижу всех неудачников из «Волос», черного в мире белых в «Рэгтайме», гения среди ничтожеств в «Амадее». Их всех и притягивает, и отталкивает чуждый им мир, они все борются за то, чтобы проникнуть в него, и им это никогда не удается, хотя они оставляют в этом мире свой след.
Нашим творчеством управляет психический двигатель, который никогда не меняется и почти всегда работает на одном и том же горючем. Мы читаем горы материалов, и вдруг неожиданно какая-то история захватывает нас, и мы чувствуем, как в нас просыпается возбуждение, но мы никогда не знаем, почему это происходит. Этот процесс бессознательный, но осязаемый. Что-то внутри нас реагирует на невидимые волны чувств, пронизывающих именно эту тему или историю. И чаще всего оказывается, что эти чувства уже волновали нас и раньше, ведь в конце концов эти чувства и определяют нашу артистическую индивидуальность, и я думаю, что в бетонном подвале многоэтажки, затерявшейся в грязном московском пригороде, я ощутил в ту ночь не только всю печаль России, но и свою собственную печаль.
Успех «Любовных похождений блондинки» свел меня с Карло Понти. В это время поднималась «новая волна» чешского кино, фильмы Веры Хитиловой, Иржи Менцеля, Яна Кадара, Эльмара Клоса, Яна Немеца и других режиссеров гремели по всей Европе, и Карло Понти решил купить право рекламы. Он только что заработал миллионы на «Докторе Живаго», и мы были хорошим капиталовложением.
Морис Эргас, правая рука Понти, договорился о том, что его шеф будет финансировать разработку одного сценария, и я до сих пор сожалею, что не снимал по нему фильм. Фильм «Американцы идут» начинался с истории последнего дикого медведя в Татрах. Медведь очень стар и вот-вот умрет, поэтому чешские лесные ведомства решают продать его западным охотникам. Право на один-единственный выстрел стоит 10 000 долларов, и богатый американец первым покупает право распорядиться жизнью последнего карпатского медведя. Но еще до его приезда медведь уходит из родных лесов и переходит через границу — в Польшу. Начинается паника: деньги уже в банке, американец прилетает в Прагу, а медведь — за границей. Такой была завязка сюжета.
Папушек, Иван и я были в восторге от возможностей, предоставляемых такой ситуацией, и нас распирали идеи.
Понти немедленно пригласил нас в Италию, чтобы мы писали сценарий в римском пригороде. Он не хотел, чтобы сценарий написали без его участия. Он собирался предоставить в наше распоряжение английского сценариста, который разбирался в коммерческой стороне кино на Западе и помог бы нам создать комедию, за которую зрители охотно платили бы твердой валютой. Мы втроем посовещались и решили согласиться на такое сотрудничество. Даже если ничего не выйдет, мы по крайней мере проведем несколько недель в Италии без особых забот.
Понти поселил нас в божественной гостинице на берегу моря в Тор-Ваянике, арендовал для нас машину, выделил немного денег на повседневные расходы и приставил к нам английского сценариста, чье имя останется неизвестным. Этот тип недавно сочинил сценарий фильма, имевшего огромный финансовый успех, у него были две секретарши, он снимал половину великолепного замка с отличным бассейном и обладал невероятной плодовитостью. Он задиктовывал обеих секретарш до полусмерти.
Каждый день мы должны были приезжать в замок сценариста и работать с ним на краю бассейна. Замок напоминал декорацию для абсурдистской пьесы. Он принадлежал аристократу, выходцу из одной из старейших семей Рима. Тот не был богат, хотя и держал двух слуг, и поэтому сдавал одно крыло замка денежным постояльцам, чтобы оплатить его содержание. Все свободное время он посвящал писанию заумных марксистских эссе и, будучи страстным коммунистом, редко просил слуг что-нибудь делать. Слуги загорали вместе с нами возле бассейна. При появлении аристократа они поднимали голову.
— Вы куда? — спрашивал один из них.
— Хочу взять себе кока-колу, — отвечал хозяин замка.
— Мне можете тоже захватить?
— Да, конечно.
И так этот аристократический марксист обслуживал своих слуг всю неделю. Но по выходным, когда замок наполнялся другими аристократами, приезжавшими в гости из Рима, слуги надевали форму и занимались своим делом. Конечно, они питали нежные чувства к своему хозяину и не хотели, чтобы он упал в глазах своих собратьев. Впрочем, в понедельник они снова укладывались загорать у бассейна.
Мы отлично чувствовали себя в Италии, но писать сценарий возле плавательного бассейна было очень сложно. Наш англичанин работал одновременно еще над двумя проектами. Он диктовал пьесу в стихах о Самсоне и Далиле одной секретарше и ученый трактат о китайском фарфоре — другой. Обычно он посвящал свои утра стихосложению, а по вечерам услаждал наш слух очередными главами своего научного труда.