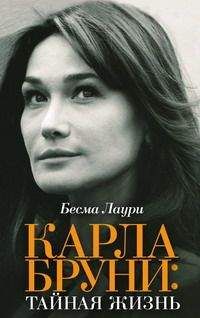Во «Второй книге» Надежды Мандельштам содержатся важные дополнительные подробности.
«Мы вернулись из Армении поздней осенью тридцатого года. <…> Первые полтора года мы мытарили по чужим квартирам, одно время даже порознь. “Волчий цикл” писался, когда Мандельштам жил у своего брата (у Шуры), а я у своего.
В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная, она соседила с двумя такими же перенаселенными комнатами, где в одной бренчал на рояле Александр Герцович, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась “запрещенная тишь”. <…> Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей» [171] . «Запрещенная тишь» – цитата из стихотворения, написанного в Старосадском переулке в марте 1931 года.
После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет – хорошо озорует:
Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь…
Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь…
Не потому ль, как подкидыш, дрожишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?
«Мышь», несомненно, восходит к пушкинскому: «жизни мышья беготня…» и, очень вероятно, к статье М.А. Волошина «Аполлон и мышь». Ночью на какое-то время мышиная беготня жизни прекращалась, и «уворованные» у времени минуты превращались в стихи. Ночные шорохи и шуршание звучат в прошивающих стихотворение «ш» и «ж». Внутренняя нервная дрожь сопровождает творческое возбуждение; но «дрожишь», как скупец, еще и над каждой драгоценной минутой свободной радостной работы (наконец-то никто не мешает). Эта свобода, как всякая свобода, подозрительна, статус поэта сомнителен и маргинален – как у подкидыша. Хорошо сознавая, что в его жизни наступил новый этап, что прошлое, еще в двадцатые годы бывшее не таким уж далеким, навсегда ушло, стало в полной мере прошлым, которое никогда не вернется, Мандельштам пишет – еще в феврале 1931-го, вскоре после переезда из Ленинграда в Москву и в начале «старосадского периода», – стихи, ставшие его прощанием с ушедшим миром, «окончательным расчетом отношений с Петербургом-Ленинградом», по словам М.Л. Гаспарова [172] .
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива…
Отрекаясь от старого «державного» Петербурга (однажды в беседе, напомним, говоря об ушедшей в 1917 году России, Мандельштам сказал: «Ничего, ничего я там не оставил»), от его гвардейцев, устриц, тяжелого, буржуазного, «египетского» величия («египетская» тема еще откликнется в 1937-м, в стихотворении о Франсуа Вийоне: «Украшался отборной собачиной / Египтян государственный стыд, / Мертвецов наделял всякой всячиной / И торчит пустячком пирамид»), отрекаясь от «блоковских» цыганок («лимонная Нева» вызывает в памяти: «Я послал тебе черную розу в бокале / Золотого, как небо, Аи»), отрекаясь от города, «знакомого до слез» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 1930), Мандельштам, в сущности, вопреки всем заявленным отказам, признается Северной столице в любви. Ушел не только имперский город, но и ушло, подобно благородной красавице леди Годиве из стихотворения Альфреда Теннисона, неразрывно связанное с Петербургом тонкое и сложное цветение европейской культуры, ушла изысканная и нежная женская красота, ушло аристократическое благородство. Леди Годива олицетворяет здесь, несомненно, тот петербургский европеизм, к которому так тянулся мальчик Осип Мандельштам из родного дома, из отвергаемого им тогда «хаоса иудейского». Леди Годива – персонаж английской легенды, графиня – просила мужа снизить разорительные налоги, которыми он обложил своих подданных. Граф обещал сделать это только в том случае, если его супруга согласится проехать на коне обнаженной через весь город (Ковентри), то есть поставил заведомо невыполнимое условие. Попросив горожан в назначенный день закрыть ставни и не смотреть на улицу, леди Годива нагой проехала по городу, и графу ничего не оставалось, как исполнить обещание. «Распущенную рыжую гриву» леди Годивы можно видеть на бывшей очень популярной картине художника-прерафаэлита Джона Кольера (1898). Красота петербургских «европеянок нежных», их влекущее очарование не забыты и не могут быть забыты. Попрощавшись с прошлым, надо было определиться в настоящем. 17–28 марта 1931 года Мандельштам пишет центральное стихотворение так называемого «волчьего цикла».
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей —
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, —
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
В будущем обещаны «высокое племя людей» и «гремучая доблесть»; это высокий идеал, но определение «гремучая» имеет некий явно негативный оттенок: не говоря уже о том, что оно входит в сочетания «гремучая смесь» (взрывчатая смесь водорода с кислородом) и «гремучая змея», оно напоминает о погремушке: слишком много шума, слишком широковещательны обещания светлого будущего. Этот шум запечатлен в самом звучании первого стиха, в его ударных и безударных «у» и ударных «о»: У – У (ju) – О – У – О. Как представляется, именно гудящее «у» и родство со словом «погремушка» обусловило выбор слова «гремучую» (а не «гремящую») – очень уж погремушечны рисуемые перспективы. Но тем не менее назад возврата нет, старый мир должен был рухнуть, страшный век-волкодав делает полезное дело – давит волков. Сложность и напряженность ситуации Мандельштама заключалась в том, что он не был «антисоветским» поэтом. Будь он им, ему, в известной мере, было бы проще. Напротив, он хотел найти свое место в новом мире, за который боролись поколения лучших людей России; нельзя предать «присягу чудную четвертому сословью / И клятвы крупные до слез» («1 января 1924»). Век-волкодав ошибается, кидаясь на него (отголосок травли в связи с делом о переводе «Тиля Уленшпигеля»), поэт не волк и новой жизни не враждебен. С другой стороны, невозможно без отвращения и страха видеть «кровавые кости» в колесе современности, видеть насилие и ложь, заставляющие усомниться в доброкачественности нового мира. Отсюда – мотив бегства. Строки «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе» (курсив мой. – Л.В.) корреспондируют, вероятно, со стихами Эдуарда Багрицкого (где речь идет о суровой необходимости уничтожать врагов революции): «Их нежные кости сосала грязь» («ТВС»,1929) – эта связь уже отмечалась исследователями. Первые два стиха третьего четверостишия в следующем, 1932 году отзовутся в «Стихах о русской поэзии» («И белок кровавый белки / Крутят в страшном колесе») и в одном из вариантов концовки стихотворения «О, как мы любим лицемерить…» («И не глядеть бы на изгибы / Людских страстей, людских забот»).
«Когда он мне прочел “За гремучую доблесть грядущих веков”, – вспоминал поэт Семен Липкин, – я, потрясенный, воскликнул: “Это лучшее стихотворение двадцатого века!” – но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес: – А в нашей семье это стихотворение называется “Надсоном”» [173] . Действительно, мандельштамовские стихи ритмически близки надсоновскому «Верь, настанет пора и погибнет Ваал…». В отношении Мандельштама к поэту Семену Надсону, кумиру народнически настроенной молодежи 1880–1890-х годов, ирония сочеталась с сочувствием к его гражданской позиции. О.А. Лекманов указывает на связь «За гремучую доблесть грядущих веков…» с одним из стихотворений Поля Верлена и фразой из сказки Киплинга о Маугли («Мы с тобой одной крови – ты и я») [174] . Сибирские детали, по убедительному предположению Д.И. Черашней, восходят, видимо, к «Житию протопопа Аввакума», которое Мандельштам хорошо знал и любил [175] .