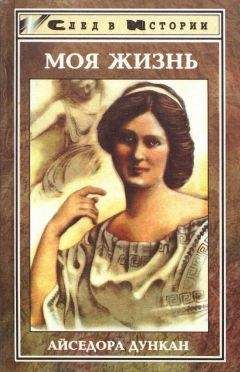Потом я его встречал у проф. П. Когана, его страстного поклонника. Впечатление то же: что-то вроде медиума, мало способен к разговору. Как всегда в моих сношениях с поэтами, я позондировал почву об его отношении к музыке. Тут меня тоже ждало разочарование: Блок предпочитал цыганскую музыку. Отмечу еще одно обстоятельство: все символисты, которых я знаю, в своей «внешности» были выполнены как бы в соответствии со стилем своих стихов. Вяч. Иванов был «похож» на свои стихи, молчаливый Балтрушайтис – тоже. «Солнечный» Бальмонт со своей огненной шевелюрой и надменной речью, растрепанный Белый и «господинчистый»
Брюсов – все были подобны вполне своим произведениям. Блок же совсем не походил на свои стихи. Он был гораздо тяжелее, земнее, физичнее их. Однако что поделать?
Вспомним стихи Фета и наружность хозяйственного черносотенного помещика Шеншина – их автора. Всякое бывает…
В заключение расскажу о моих двух встречах с еще одним поэтом, тоже символистом, почему-то причисляемым к «второстепенным», – Максимилианом Волошиным.
Первая встреча. Мне четырнадцать лет, и у нас сидит ученик моего тогдашнего наставника Н. В. Туркина – массивный юноша лет семнадцати. Называется Макс Волошин. Из казаков, как и мой наставник Туркин. Только что кончил гимназию.
Говорит, что пишет стихи.
Вторая встреча – через тридцать лет. Я, Петр Семенович Коган и бородатый, огромный Максимилиан Волошин – уже известный поэт, проживающий в Крыму, в Коктебеле,- шествуем втроем в Кремль на свидание с Каменевым. Волошин хочет прочесть Каменеву свои «контрреволюционные» стихи и получить от него разрешение на их опубликование «на правах рукописи». Я и Коган изображали в этом шествии Государственную академию художественных наук, поддерживающую ходатайство.
Проходили все этапы, неминуемые для посетителей Кремля. Мрачные стражи деловито накалывают на штыки наши пропуски. Каменевы обитают в дворцовом флигеле направо от Троицких ворот, как и большая часть правителей. Дом старый, со сводчатыми потолками – нечто вроде гостиницы: коридор и «номера», в него выходящие. Все, в сущности, чрезвычайно скромно. Я и раньше бывал у Ольги Давыдовны по делам ЦЕКУБУ и Дома ученых, и обстановка мне, как и П. С. Когану, хорошо знакома, но Волошин явно нервничает. Хозяева, которые были предупреждены, встречают нас очень радушно. Каменева подходит ко мне с номером парижских «Последних новостей» и говорит:
– Послушайте, что «они» о нас пишут!
И действительно, выясняется из статьи, что Россией управляет Каменев, а Каменевым… его жена.
Она страшно довольна и потому в отличном расположении духа.
Волошин мешковато представляется Каменеву и сразу приступает к чтению «контрреволюционных» стихов.
Это было в высшей степени забавно созерцать со стороны. «Рекомый» глава государства (он был тогда председателем Политбюро) внимательно слушал стихотворные поношения своего режима, которые громовым, пророческим голосом, со всеми проклятиями, в них заключенными, читает Волошин, напоминая пророка Илию, обличающего жрецов. Ольга Давыдовна нервно играет лорнеткой, сидя на маленьком диванчике. Коган и я с нетерпением ждем, чем окончится эта контрреволюция в самых недрах Кремля.
Впрочем, в самой семье Каменевых гнездилась контрреволюция в лице его сына [090] – это был партийный секрет, но его все знали.
Волошин кончил.
Впечатление оказалось превосходное. Лев Борисыч – большой любитель поэзии и знаток литературы. Он хвалит, с аллюром заправского литературного критика, разные детали стиха и выражений. О контрреволюционном содержании – ни слова, как будто его и нет вовсе. И потом идет к письменному столу и пишет в Госиздат записку о том же, всецело поддерживает просьбу Волошина об издании стихов «на правах рукописи».
Волошин счастлив и. распрощавшись, уходит. Я и Коган остаемся: ему необходимо кое-что выяснить с Каменевым относительно своей академии. Тем временем либеральный Лев Борисыч подходит к телефону, вызывает Госиздат и, совершенно не стесняясь нашим присутствием, говорит:
– К вам приедет Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения.
Даже у искушенного в дипломатии П. С. Когана физиономия передернулась. Он мне потом говорил:
– Я все время думал, что он это сделает. Но не думал, что так скоро и при нас.
А счастливый Волошин уезжал к себе в Коктебель с радужными надеждами на напечатание «на правах рукописи» своих стихов.
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
БАЛТРУШАЙТИС
Я вовсе не имею намерения писать литературную критику и «расценивать» так или иначе художественные достижения (для меня лично очень значительные) Серебряного века русской литературы. Моя цель: написать мои воспоминания и впечатления об эпохе, современником и свидетелем которой я был и чувствами и настроениями которой сам жил. Теперь символисты считаются перевернутой страницей истории, многих из них забыли совершенно, другие вызывают даже порой усмешки и обвинения в дурном вкусе. Я лично думаю, что преждевременно переворачивать страницы недоделанной еще истории и хоронить людей значительных: они имеют тенденцию неожиданно воскресать.
Эпоха символистов была слишком значительной по своей внутренней, философско-мыслительной зарядке – может быть, наиболее значительной из возникших до сих пор на русской почве, – генезис их, быть может, был более укоренен в мысли и в глубине, во взгляде на искусство, нежели в самом искусстве, – это, между прочим, и было их исповеданием художественной веры: взгляд на искусство как на иератическое служение, как на нечто, устремленное от самого себя – для неких высших целей.
Ныне именно эта иератичность искусства утрачена, и оно вернулось к тем унылым настроениям психических будней и духовного бессилия, каким страдало уже до появления символистов.
О Балтрушайтисе мне хочется написать прежде всего потому, что именно он является наиболее забытым, наиболее похороненным лавиной событий. С ним я, между прочим, был едва ли не ближе, чем с кем-либо из иных символистов, – и он был единственный, с которым я был на «ты», хотя он был значительно старше меня, принадлежа к первой генерации символистов, родившихся еще в шестидесятых годах [091].
В известной мере среди символической группы – вообще не очень однородной и не очень дружной – он имел позицию некоей «особой точки», как выражаются математики: не думаю даже, что он вполне подходил под наименование «символиста». Его творчество овеяно духом старых поэтов: Баратынского и отчасти Тютчева. Его поэтический голос негромкий, но глубокий и вдумчивый – он творил вполголоса. И весь он был замкнутый, чрезвычайно молчаливый – мог просиживать в обществе часами, не сказав ни слова. К новаторам поэтического слога и выражений он не принадлежал – в его стихах нет литературной и поэтической новизны форм выражения, лексикон его не выступает из классических границ. И в своем кругу он был тих и замкнут и не пользовался теми громкими лаврами славы, которые все-таки успели выпасть на долю Бальмонта, Брюсова, Блока, Мережковского, даже Андрея Белого.