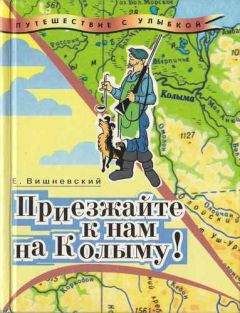И Маруся так рассудила. Ей было уже двадцать лет, к ней сватался Федя Коноваленко, тоже одноклассник. Он вернулся с войны почти неповрежденным, и у них уже все было решено.
А сын тут вдруг возьми и объявись. Он, оказывается, был в плену, потом его где-то проверяли на подозрительность. Слава богу, все оказалось в порядке, и теперь он снова служит в рядах Советской, бывшей Красной, армии и будет служить до тех пор, пока его не демобилизуют, а когда это произойдет, ему неизвестно. Все это было написано в треугольном солдатском письме без марки, которое вручила Петру Степановичу почтальонша, к счастью, хорошо ему знакомая: письмо-то пришло по старому адресу. С целью правильной доставки корреспонденции, почтальонша внимательно изучила все, что было написано на треугольном конвертике со штампом «Просмотрено военной цензурой» и, будучи немного в курсе обстоятельств жизни Петра Степановича, догадалась, что треугольничек пришел почти что с того света. Чтобы утвердиться в своей догадке, она даже помедлила немного возле калитки, но Петр Степанович не стал сразу разворачивать треугольник, а, с недоумением вертя его в руках, ушел в дом.
Письмо начиналось словами: «Дорогие Мама и Папа!». Позднее старший сын Петра Степановича, конечно, узнает, что мамы его давно уже нет в живых, потому что она умерла 24 марта 1943 года, в тот самый день, когда он попал в плен. Просто мистика какая-то! Но сейчас откуда он мог знать об этом, проведя столько времени в плену? Поэтому он и писал: «Дорогие Мама и Папа!». А как же он мог еще писать?
Что испытал Петр Степанович, развернув обычный по тем временам бумажный треугольник? Какие чувства? Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому побывать в его шкуре, а нам не приходилось. Если бы он был женщиной, мы еще могли бы сами что-то вообразить, какой-нибудь там обморок, а потом, когда ей уже распустили кринолин, – ах! я всегда знала, что он жив! Какое счастье! И т. д., и т. п.
Но Петр-то Степанович был мужчиной и – к той поре – с довольно-таки дубленой кожей. Удивляться этому не следует. Мы специально посмотрели статью «Дубление» в Большой Советской энциклопедии, там прямо написано: «Широкое распространение в Советском Союзе в годы сталинских пятилеток методов ускоренного красного и комбинированного дубления привело к резкому сокращению длительности процесса дубления». Петр Степанович прошел и красное, и комбинированное, какие уж тут обмороки!
Но все-таки и он не остался бесчувственным и, по нашим сведениям, даже заплакал. Скупыми, мужскими, но все-таки слезами, а это с ним не часто случалось. Мы знаем только еще один случай, о котором не преминем вам сообщить в надлежащем месте. Были это слезы радости или слезы печали? Повод был радостный, что говорить, но он столько всколыхнул в душе. Все, конечно, обрадуются, узнав об этой счастливой новости, но Катя-то уже не узнает и не обрадуется. Может, Петр Степанович единственный и понимал, как ей всегда хотелось радостной жизни, и как мало радостей послала ей судьба. Пожалуй, только дети и были ее радостью, а все остальное, чего она ждала, соединяя свою жизнь с жизнью Петра Степановича, полного таких надежд… Обманул Петр Степанович ее ожидания, обманул, а она даже ни разу его этим не попрекнула. Ну да ладно.
Старший сын Петра Степановича вернулся летом 1947 года, в воскресенье. Когда он неожиданно и несколько нерешительно открыл калитку в знакомый еще по довоенным временам, но тогда чужой двор по Красноармейской 9, Петр Степанович, по случаю выходного дня, строгал доску, с помощью каковой намеревался укрепить расшатавшееся крыльцо. Можно сказать, что он готовился таким образом к приезду сына, зная об этом приезде загодя из последнего полученного им письма. Петр Степанович поднял взгляд к калитке, медленно положил рубанок – мимо вкопанного в землю стола, на котором лежала доска, так что рубанок упал на землю, – и стал всматриваться в вошедшего, с трудом узнавая в нем сына. Какое-то время оба стояли неподвижно, как бы привыкая друг к другу. Последний раз они виделись перед уходом сына в ополчение в 1941 году.
Мы не будем описывать последовавшую затем сцену, мы же при ней не присутствовали. Мы лишь знаем, что ко всем неизбежным в такой момент эмоциям у Петра Степановича добавлялось, буквально заглушая все остальное, желание как можно скорее накормить сына, ему казалось, что с этим нельзя медлить, как с искусственным дыханием. Как только он почувствовал, что может отойти от него, оставив покурить во дворе, он бросился в погреб, стал там чиркать спичками, чтобы зажечь керосиновую лампу, и почувствовал, что руки у него дрожат, и спички не загораются. Картошки он еще мог бы набрать в темноте, но ведь ему нужно было взять банку с помидорами, и он не знал точно, где стоит миска с малосольными огурцами.
Он чуть было не позвал сына – помочь засветить лампу, но вовремя опомнился, и ему удалось унять дрожь в руках…
Петр Степанович занялся чисткой картошки, стал зажигать примус, собирать на стол. За всеми этими делами ему почему-то легче было разговаривать с сыном, расспрашивать его про то, как он доехал от своего места службы в Германии, вообще про Германию… Не про плен, а как, например, немцы сейчас к нам относятся? Как там с продуктами? Хотя, скажем честно, немцы в тот момент его не сильно интересовали, его больше беспокоила предстоящая встреча сына с Любовью Петровной, когда она вернется с дежурства в своей больнице. Как оно все пройдет? Надо бы ее как-то предупредить.
Младшему сыну Петра Степановича было уже 11 лет. В то воскресенье он с утра болтался с хлопцами на Донце, вернулся, когда Петр Степанович заканчивал свои кухонные приготовления, и не сразу узнал в незнакомом дядьке в военной гимнастерке старшего брата. Петр Степанович велел ему поесть, а после сходить в больницу и сообщить новость маме Любе. Однако, быстро оценив значение момента, младший сын пришел в такое возбуждение, что есть не стал, а схватил вареную кукурузину, наспех посыпал солью, и, обгрызая ее на ходу, побежал в больницу, по дороге оповещая всех соседей о возвращении брата.
К вечеру об этой новости знал, можно сказать, весь город. Знакомые заходили поздороваться, а когда стемнело, собрались за вкопанным в землю столом несколько довоенных друзей старшего сына, принесли бутылку самогона. Пришли и Маруся, и Федя Коноваленко, и другие, человек пять или шесть. Многие разъехались, а кого-то уже и не было на этом свете. Помянули их, выпили за здравие тех, кто выжил, а Петр Степанович произнес тост прямо-таки философический.
– Человеческая жизнь, – сказал он, – быстротечна, и луна, что нам светит (все посмотрели на небо, потому что луна, в самом деле, сияла вовсю, хотя и закрываемая время от времени пробегавшими облаками) и светила еще при Навуходоносоре, только подчеркивает эту быстротечность. Но такой инфузории, как я, кажется, что она живет очень давно и даже познала законы жизни. Какой закон главный? Закон потерь. Только в детстве и немного в молодости мы приобретаем, а потом тратим и теряем. Тратим наши знания, а теряем человеков… – Он помолчал, как будто перебирал в памяти всех, кого знал и кого уже не было. А, правду сказать, так вспомнилась ему только Катя, ему снова ужасно жалко стало, что она мало хорошего успела увидеть в жизни, даже платья крепдешинового он ей не купил, а ведь ей так хотелось… Далось ему это крепдешиновое платье! Он представил себе, что она могла дождаться негаданного возвращения сына, от жалости голос его начал дрожать, потому Петр Степанович и замолчал ненадолго, но потом все-таки продолжил.