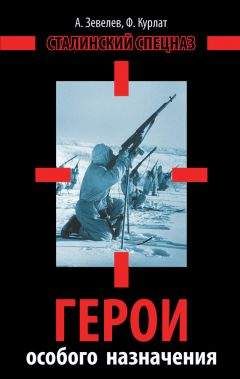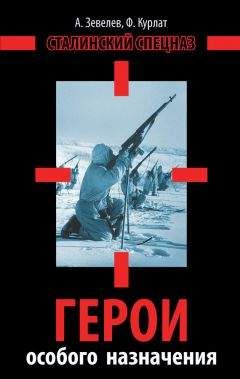В штабе я доложил комбату, что задание как бы выполнено, герой угомонился. Вернее, угомонён. И попросил, если возможно, до завтрашнего дня дать мне передышку. А то…
— Разумеется, разумеется, — сказал гвардии майор. — Я и так гляжу, с вами что-то неладно. Почему раньше не сказали? Идите-идите. Отдышитесь. Я пришлю фельдшера.
— А разве он?.. — спросил я.
— Догнал-догнал, и вместе с санитарами.
В хатёнке участники облавы успели весь пол застелить собственными телами — как вошли, так и повалились сплошняком. Я опустился на лавку у печи. Лавка была свободна, да и ещё просторная лежанка, прикрытая постелью. Весь запас, даже самый потайной— резервный, у меня был окончательно израсходован: дышал ещё по привычке, но уже урывками. Вошел фельдшер Валентин, он то ли переступал через фигуры, укрытые шинелями, то ли наступал на них. Добрался до лавки и сразу сунул мне подмышку градусник.
— Где ты его раздобыл? — пробормотал я.
— Отнял у разъярённых врагов, — ответил Валентин и тоже сел на лавку.
Из-за печи высунулась незаметная маленькая бабуля, хозяйка хаты. И не мне, а ей он торжественно сообщил:
— Во! Ровно сорок! — я не заметил, когда он успел рассмотреть. — Даже с хвостиком.
Я попытался хоть чуток привстать и не смог.
Бабуля засуетилась, приказала неожиданно громко:
— А ну, разувайся, раздевайся, милок.
— Не-е могу-у, — промычал я. — Нельзя…
Снять сапоги ещё куда ни шло, но даже представить невозможно, как это снять штаны, гимнастёрку в оперативной глубине, в прорыве, в тылу у противника. Ведь каждую минуту-секунду может раздаться выстрел и команда. Но у бабули на этот счет были другие соображения. Она настаивала:
— Разувайся-раздевайся совсем! И без исподнего. Давай в лежанку, под перину. А ну, дохтур, — это Валентину, — разоблачи его. А я — сей миг…
Исчезла, откуда-то из глубины крикнула:
— Пелюлев ему не давай! Уже не поможет.
Не помню, не знаю, как я сам разделся или фельдшер потрудился. Помню только, как уже голый лежал под обширной, серой, видавшей виды периной. Тут опять появилась бабулька с большущей кружкой в обеих руках.
— На, — сказала и поднесла край кружки к моим губам. — Пей, милок, и до самого дна.
Из последних силёнок я начал глотать это пойло. Показалось, что самогон-первач с какими-то травами и большим количеством перца. Последняя мысль сверкнула молнией: «Вот нагрянут и хрен ногами в штаны попадёшь. А если власовцы?!»
— Пей-пей, не останавливайся, — бормотала бабуля. — «Пейте здесь, пейте тут, на том свете не дадут», — это я ещё усвоил.
Допил и потерял сознание…
Нас подняли в половине шестого утра. Разместились все на броне двух танков: к единственному «валентайну» причалила ещё одна тридцатьчетвёрка (что за драгоценный подарок!) Мне уступили местечко на брезенте у мотора — самое тёплое.
Бабуля скрестила руки на груди и сокрушенно покачивала головой: мол, «вот так-то, а то бы ты здесь и по сей час загибался». Мне казалось, что температура у меня почти нормальная, даже некоторая нехватка по градусам. И слабость неимоверная. Сил хватает только на то, что надо сделать в сей миг… Вот где появляется полное бесстрашие: на испуг тоже хоть какой-то запас сил нужен… Всё, как в густом тумане. По неизвестной причине. Кроме того, там и природного тумана было предостаточно… Трудно определить, когда он мерещится, а когда натуральный. Ну ладно, у меня (выяснилось) в глазах муть по причине высокой температуры. Или её полного отсутствия… А у других— без всякой на то причины? Сплошной туман по привычке?..
До Каменец-Подольска, говорят, осталось всего двадцать километров.
«Всего двадцать или все двадцать?» Лежу на броне, под брезентом.
Хвала атакованному городу, его обитателям и обстоятельствам
Из дальнейшего разворота событий я был некоторым образом выключен, и чувство не только слабости, но и блаженной безответственности, широко распространённое на необъятных просторах театра военных действий, захлестнуло меня с головой. Брезент был большой, тепла от мотора достаточно — только смотри не угори!. А в тайниках подсознания булькало: «Ничего не знаю, не ведаю, ни за что не отвечаю». Наконец-то!
Я плыл в тумане, сотканном из всего на свете: колодца, плетня, утонувшего трактора… из любого встречного дерева вырастали загадочные видения, люди странным образом отделялись от земной тверди, парили в непосредственной близости от неё и волнообразно раскачивались, словно утопленники по стойке «смирно». Все силы тратились на то, чтобы, когда кто-нибудь обращался прямо ко мне, остановить или хотя бы попридержать на пару секунд это волнообразное качание, собраться с мыслями и ответить по возможности внятно… не молоть нечто несусветное…
В этаком-то бульоне неучастия и безответственности я пребывал и тогда, когда меня распаковали из брезента и предложили взглянуть на финальную часть захвата средне-векового города Каменец-Подольска, разумеется, нашими войсками. Здесь всё было как на ладони. Картина разворачивалась сама: с нашей стороны на довольно приподнятом холме красовалась древняя, та самая Турецкая крепость, которая была угрожающе обозначена на карте и от которой мы ждали больше всего неприятностей. Её возвели и содержали как боевую ещё в XII–XIV веках, а действительно расширили и укрепили чистокровные турки, надо полагать, руками и мускульной силой побеждённых славян и прильнувших к ним народностей. Город красовался на огромной скале вышиною метров в тридцать и величественно господствовал над всей местностью. Дабы сама крепость была понадёжнее соединена с городом, люди не поленились — укрепили камнем и расширили замковый мост, названный тоже Турецким. Вероятнее всего, строили мост теми же силами побеждённых — могучее литое каменное сооружение, способное выдержать бесчисленное множество кавалерийских атак, подкопов, подрывов, штурмов, артиллерийских и даже массированных авиационных бомбардировок. Уже за мостом круто в гору поднималась навстречу городу мощёная дорога и разворотом влево уходила в самую его сердцевину. Там она, достигнув небольшой площади, терялась в старинных постройках, улицах и улочках. Вся дорога, насколько хватал глаз, была до отказа заполнена, даже забита вражескими автомашинами всех систем и назначений вперемешку с боевой техникой. Всё это было настолько плотно притёрто, что не было ни малейшей возможности не то что развернуться, хоть кому-то вырваться из потока или встать на боевую позицию. Только одно самоходное орудие («панцырьканоне») каким-то чудом умудрилось выбраться на высокую земляную площадку или, может быть, обосновалось там заранее. Немецкие сапёры колупались на проезжей части моста. По ним стреляли все, кто был на траверсе этой линии. Сапёры несли потери, но к городу не отступали. Первый танк передовой бригады выкатывался на подступ к мосту и успел ударить из орудия по закупоренной колонне — раз, потом ещё раз. Там уже кипела паническая свалка, машины бились одна о другую, солдаты и обслуга разбегались и ползли вверх по крутым откосам — здесь пахло разгромом. В этот миг немецкая самоходка пробила борт передового танка, там остался весь экипаж, а командиру позднее воздвигли бронзовый памятник при въезде в город, как первому освободителю. Идущий следом танк Т-34 раздолбал самоходку и несколькими следующими снарядами показал, кто здесь хозяин. Он — этот второй — ринулся через мост по дороге вверх, у него хватало сил расшвыривать и давить вражеские машины, мотор рычал, как бешеный, опрокидывал и мял, давил и стрелял из орудия, не поднимая ствола. Несколько танковых экипажей продирались за ним, эти брали цели справа и слева. Только не подумайте, что они шли лавиной — это всего три-четыре экипажа, они и захватили переполошенный город.